
АЛЬМАНАХ "АКАДЕМИЧЕСКИЕ ТЕТРАДИ"
Тетрадь четвертая
Театр
Николай Хренов
Театр ХХ века: активность архаики в обновлении комического жанра
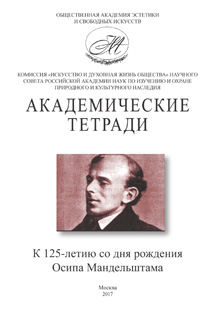 |
Цитируя Вольтера по поводу того, что небеса дали людям в противовес тяготам в жизни две вещи – надежду и сон, Кант добавил: еще и смех. Если уж продолжать эту тему, то о значимости смеха и его творческом потенциале в мироздании свидетельствует такое изречение, найденное на древнеегипетском папирусе: «Когда бог смеялся, родились семь богов, управляющих миром… Когда он разразился смехом, появился свет… Он разразился смехом во второй раз – появились воды… Наконец, при седьмом взрыве смеха родилась душа». Здесь, конечно, возникает особая тема для размышления, а именно отношения смеха и мифа. Но мы остановимся лишь на теме «смех и театр». Правда, при освещении этой, казалось бы, частной проблемы нам потребуется и миф. Проблема в том, что то, что мы называем смехом, является феноменом многогранным и очень зависимым от нашей к нему расположенности или нерасположенности. Один из наших практиков, пишущих сценарии к комедийным фильмам, А. Инин признавался в том, что никогда невозможно предсказать, что вызовет смех. Видимо, часто это происходит потому, что смех покидает сцену и перемещается на улицу, в саму жизнь. Хотя спустя время он может туда снова вернуться. Сегодня мы смеемся (если еще смеемся) не так, как смеялись в 90-е гг., а в 90-е смеялись не так, как в 30-е. В «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицына сообщены факты, когда за анекдоты приходилось отбывать в лагерях. Но и вообще, в ХХ в. стали смеяться иначе, чем в ХIХ в. Ведь, например, в ХIХ веке, как утверждал А. Белый, Гоголь не был понят. Но дело в том, что по-разному смеются в разные периоды и эпохи. По-разному смеются и в разных культурах. Приведем в связи с этим суждение русского философа В. Базарова, который в своей статье «Заколдованное царство», опубликованной в журнале «Летопись» за 1916 г., этот вопрос уже поставил. Оно касается специфики русского смеха. В названии статьи В. Базарова – метафора. Так философ представил Россию. В статье он попытался понять специфику русского смеха. Это предполагает анализ соотнесенности смеховой стихии, российской ментальности и русской культуры. Смеемся ли мы? Как и над чем мы смеемся? Он пишет: «С тех пор, как начался так называемый «гоголевский период» нашей литературы и жизни, мы только и делаем, что смеемся, – смеемся, зачастую до колик, до слез, по самым разнообразным поводам и в самых различных смыслах»1. Да, много смеемся и продолжаем смеяться. Приведу пример из театра. Социологи просчитали: в конце 60-х гг. комедия драматургов Б. Рацера и В. Константинова «Десять суток за любовь» по количеству представлений и театров, поставивших ее, вышла на первое место. Вот что по этому поводу писал В. Дмитриевский. «В 1969–1970 гг. «Десять суток за любовь» так или иначе отражала общественный вкус, на нее был исключительный спрос, и авторы ее стали тем самым законодателями эстетических, да и не только эстетических, оценок. И раз уж они ими стали, то право каждого – и зрителя, и критика, в силу его профессии прежде всего – определить истинную цену этого явления. Она, хоть и горько в этом признаваться, подчас очень невысока – как говорится, ниже всякой критики»2. Вообще, отделить ХIХ в. от того, что мы называем Новым временем, невозможно. Эпоха Нового времени, или Просвещения, – это эпоха модерна, смысл которой в возникновении фантастической веры в разум, породившей все революции, в том числе и русские, а вот Ю. Хабермас утверждает, что в том числе и сменяющие эти революции тоталитарные режимы. Разум и стал исходной точкой в понимании смеха. Не случайно А. Герцен говорил, что в смехе есть нечто революционное. Эту мысль иллюстрирует У. Эко в романе «Имя розы». Там воссоздается ситуация запрета на фрагмент текста Аристотеля, в котором философ рассуждает о смехе. Разум задавал норму. А все, что от нее отклонялось, подвергалось смеху. Из этого положения в самом начале ХХ в. исходил А. Бергсон. Он единственный раз вышел из философской проблематики и заглянул в сферу искусства. Результат? Его сочинение под названием «Смех»3. Вообще-то философия А. Бергсона, а он, как известно, представляет философию жизни, а не разума, скорее ближе к романтизму. Но что касается смеха, то в этом вопросе философ стоит на точке зрения модерна. Бергсон, разумеется, философ, но в своей постановке вопроса он скорее социолог. Носителем нормы у него предстает общество. Индивид же может отклоняться от нормы, а потому и заслуживает осмеяния. Отдавая должное Бергсону, З. Фрейд, как и А. Бергсон, тоже один раз в своем сочинении об остроумии предпринял выход в сферу комического4. Но вот по части философии он предстает пессимистом. Он считал: философия не способна ответить на вопрос, что такое смех, несмотря на то что о смехе высказывались еще античные философы – и прежде всего, конечно, Аристотель. Жаль только, что не все, что говорил Аристотель о смехе, до нас дошло. Таким образом, существует философская традиция осмысления смеха. Но пессимизм З. Фрейд распространил не только на философию. Он ставит вопрос, понимаем ли мы вообще, когда, как и по какой причине смеемся, что вообще есть смех. Не случайно он цитирует своего коллегу – психолога из школы Рибо (а Рибо – это тот самый психолог, которого штудировал Станиславский, создававший свою систему). А тот в своем сочинении «Психология смеха» вообще выражает сомнение по поводу способности науки объяснить смех. Когда-то так вопрос ставился по отношению к искусству вообще, и Гегелю и Шеллингу приходилось на него отвечать. Это во многом объясняет, почему Фрейд не берется разгадывать, в чем заключается природа комического, сводя свою постановку вопроса к частной теме – остроумию. Правда, Фрейд все-таки в смехе кое-что объяснил. Например, он обнаружил, что смех – это всегда прорыв в инфантильное, в те пласты психики, которые характерны для детского возраста. Исчерпывает ли такое открытие Фрейда проблему смеха? Конечно, нет. Но, с другой стороны, этот вывод Фрейда повлиял на С. Эйзенштейна, который, как известно, хорошо знал и почитал Фрейда. Вывод Фрейда об инфантильной природе смеха определил его разгадку популярности Чаплина. Что определило успех Чаплина? Эйзенштейн отвечает: регресс в инфантильное. Как это объяснить? Потребностью в бегстве из размеренного, расчерченного и расчетливого мира, из цивилизации. Отсюда такой взгляд на вещи. Способность видеть самые страшные, самые жалкие и трагические вещи глазами смешливого ребенка. В комическом свете предстает то, от чего у других дерет мороз по коже5. Но если попытки философов и психологов еще не исчерпывают объяснения природы смеха, то, может быть, больше возможностей имеется у эстетики. Ведь именно эстетика превратила комическое в одну из своих основополагающих категорий. Когда у нас на рубеже 50–60-х гг., в эпоху оттепели, развертывается возрождение эстетики, на эту тему появляются книги. Однако достаточно открыть знаменитое сочинение М. Бахтина, посвященное природе смеха, чтобы обнаружить в нем скепсис по поводу эстетики и ее возможностей и способностей понять природу смеха. Эта наука о прекрасном, по мнению Бахтина, объяснить смех не способна. Может быть, она не способна еще и потому, что рождена все той же эпохой модерна, и, следовательно, в основе этой дисциплины оказываются установки все того же модерна. И лишь кризис не только эстетики, но всего мировосприятия модерна (а мы существуем уже в эпоху постмодерна) ставит нас перед открытием иных граней смеха, не замечаемых на протяжении нескольких столетий. Наверное, тоталитарные режимы ХХ в., возникшие в том числе, как уже отмечено, не без влияния установок модерна и, в частности, установки на разум, привели к сдвигу в понимании смеха. Результат этого сдвига – возникновение и распространение абсурдизма. У М. Фуко есть отличная книга об истории безумия и о том, как эпоха модерна жестко провела границу между разумом и безумием. Так вот в ХХ в. границы между разумом и безумием очень сильно сдвинулись. От разумного остался лишь знак, слово, а сущность явления ускользала. Этот сдвиг в мировосприятии оказался столь ощутимым, что его осмысление затронуло и комическую сферу. Театр, конечно, на этот сдвиг отреагировал. В России 20-х гг. возникает эксцентризм. Казалось, что ни Ионеско, ни Беккет еще не написали своих пьес. Но вот Г. Козинцев, касаясь эксцентризма, пишет: «Придумывая «эксцентризм в 1919 г., я, право же, обладал инстинктивным даром провидения. Ионеско и Беккета, вероятно, еще и на свете не было»6. Конечно, театроведы о комическом жанре знают все, литературоведы, соответственно, тоже. Но мы поставим вопрос по-другому. И театроведы, и литературоведы часто грешат тем, что изолируют рассмотрение художественных процессов, в том числе жанров от общих процессов культуры. Мы же поставим акцент именно на этом. Попробуем вывести проблему смеха за пределы истории театра и литературы, вообще за пределы истории искусства. Впрочем, такая постановка вопроса неоригинальна. Это уже сделало искусство ХХ в. Проблема лишь в том, чтобы этот сдвиг осознать. У К. Ясперса есть мысль, которая поможет нам найти в этом вопросе новый ракурс. Он говорит, что разгадка настоящего и будущего сегодня находится в зависимости от того, что мы знаем о предыстории, что тогда случилось. А предысторией он называет то, что было до осевого времени. Что касается осевого времени, то это время возникновения великих религиозных систем и особенно систем нравственности. Любопытно, что не все ценности, что уже были вызваны к жизни, остались в осевом времени. Это имеет отношение к смеху. Автор статьи «Парадокс о смехе» Л. Карасев пишет: чтобы разобраться в смехе, нужно вернуться в доисторию7. То, что происходило в последнем столетии и, пожалуй, происходит до сих пор, свидетельствует о какой-то глобальной переходности. Невольно возникает вопрос: а не закончился ли в истории какой-то длительный исторический период, в который вписывается осевое время в его традиционном понимании, и не переживаем ли мы эпоху перехода к новому осевому времени? Если так, то, может быть, развертывается радикальная переоценка ценностей, тот хаос и та смута, которые ныне становятся универсальными? Может быть, постмодерн реабилитирует то, что отверг модерн, как раз об этом и свидетельствует? Но ведь, пожалуй, это началось уже с Ф. Ницше. Но это уже другая тема. Вернемся к смеху. Имя Ф. Ницше здесь упомянуто не зря. Ведь это его новое открытие античности привело к закату идей великого авторитета по Греции – Иоганна Винкельмана, на которого, когда речь шла о Греции, опирались и Гегель, и Гете, и не только они. Вся великая эпоха классицизма. Известно, что восприятие классической Греции как образца кроме положительных моментов имело и отрицательные. Из обихода, точнее, из представлений об эстетическом были выплеснуты великие имена, в том числе Рабле, Сервантес, Шекспир и многие другие. Романтикам пришлось эти имена реабилитировать. И, кстати, тогда же был заново открыт и первый комедиограф Аристофан. Открывая по-новому Грецию, уже не как Грецию классического периода, Ф. Ницше открывает архаику вообще. Но кто только ее не открывает в начале ХХ в. После Ф. Ницше история искусства осмысляется совершенно по-другому. По-другому осмысляется и смех. Всем известно, какой интерес к античности возникает в начале ХХ в. в России, прежде всего в среде символистов. В этом смысле показательными явились идеи Вяч. Иванова по поводу возрождения античного театра. Под воздействием этих идей находился и Вс. Мейерхольд. Кстати, о Мейерхольде. В одной из книг, посвященных А. Островскому, можно прочесть резко отрицательное суждение о том, что этот режиссер делал с русскими классиками. Судя по тому, что там утверждалось, Мейерхольд прямо-таки уничтожал русскую классику. Это очень несправедливо. Хотя нельзя не отметить парадокса. В 20-е гг., когда все были предельно политизированы и идеологизированы, как, впрочем, и сам Мейерхольд, режиссер, наоборот, выявлял в этой классике то, что делало ее явлением всей мировой культуры. Он обращался к Лермонтову, Гоголю, Грибоедову, Островскому. В связи с этим можно было бы вспомнить одно суждение М. Бахтина, но это суждение он делает не в этой своей знаменитой книге. Речь идет о том, что, как утверждал Бахтин, иногда в истории наступают эпохи, когда разрушается замкнутая среда развития искусства и каждое произведение начинает рассматриваться на фоне всей многовековой истории человечества. Позднее это назовут интертекстом. Человечество в такие моменты прорывается в пространство большого опыта8. В этом смысле интересно творчество Мейерхольда. Современники режиссера, оказавшись во власти великих сдвигов, ушли исключительно в политику. А Мейерхольд начал видеть классиков, прочитываемых или непрочитываемых и непонятых, как Гоголь, в соответствии с миросозерцанием ХIХ в. Он видел их сквозь призму большого опыта человечества, в том числе и сквозь призму тех форм, которые в истории, в частности в истории театра, уже существовали, но были забыты. В том числе и истории таких культур, как античная или восточная. Пока на этом остановимся. Продолжим мысль о Мейерхольде, когда подойдем к характеристике архаических форм смеха. Но обращение к великим эпохам театра в прошлом была присуща не только Мейерхольду. Вообще, интерес, например, к возрождению античного театра возник в Германии, когда М. Рейнгардт поставил трагедию Софокла. Он привозил свой спектакль и в Петербург, потом привозил и второй раз. Спектакль показывался в цирке Чинизелли. Он был воспринят неоднозначно. Вообще, у Вяч. Иванова по поводу возрождения античной сцены были не только единомышленники, но и критики. Здесь можно сослаться на статью А. Белого «Театр и современная драма». Но вот какое соображение было высказано в ходе этой дискуссии по поводу возрождения в ХХ в. античного театра. Журналист из «Ежегодника императорских театров» за 1912 г. утверждал, что, пожалуй, более актуальной для театра начала ХХ в. была не столько античная сцена, сколько те представления, что имели место в Средние века9. Когда то, что мы называем театром, еще не развилось в форму институционализированного, профессионального театра, с одной стороны, и когда такие представления, с другой стороны, не получали выражения в тех культовых формах, что практиковались церковью. Эти представления происходили на площади в форме карнавала. Поскольку они не были связаны ни с профессиональным театром, ни с церковью, то они сохраняли давно сложившиеся в истории народные традиции. Эта даже не столько собственно театральная, сколько смеховая стихия имела место параллельно истории искусства и сохраняла древние связи с обрядом и ритуалом, в которых еще не было того, что мы обычно подразумеваем под эстетическим и художественным. Эту сферу до сих пор изучают фольклористы, этнографы и этнологи или культурные антропологи. Это как раз те формы, которые складывались еще в ситуации формирования осевого времени, задолго до того, как, опираясь на уже существовавшие в античности трагедии, Аристотель представит структуру жанров. Они предшествовали собственно истории искусства. Но, как ни странно, именно эти формы как раз и будут востребованы в ХХ в. В них-то как раз и обнаружат то, что связано с художественным содержанием. Вот тут и затрещит по швам та эстетика, что была вызвана к жизни философией и идеологией модерна. И заговорят уже о кризисе эстетики. В культуру ХХ в.прорвется огромный пласт, который в Новое время оказался вытесненным на периферию и существовал на положении бессознательного культуры. Конечно, З. Фрейд, когда он обнаружил в смехе регресс в возрастной психологии, многое уже объяснил, но не все. К. Юнг продолжит это открытие З. Фрейда и истолкует его применительно не только к возрастной психологии, но и к изжитым историческим фазам, выражаясь гегелевским языком, фазам становления Духа. Смех, по К. Юнгу, – это возможность дать волю более древнему слою сознания со свойственными язычеству необузданностью, распутством и безответственностью10. Человек поздней цивилизации регрессирует к младенческим эпохам. Ну и, конечно, что означает этот регресс как признак той разновидности смеха, что становится значимой именно в ХХ в., объяснил М. Бахтин в своей знаменитой книге, во многом не только обогатившей, но и определившей гуманитарную мысль второй половины ХХ в. Ведь Бахтин не искусствовед и даже не филолог, хотя ему пришлось писать только о литературе, а именно культуролог. Кстати сказать, идея регресса в психике как предпосылка смеха у Бахтина явно возникла не без влияния Фрейда, ведь в 20-е гг. он написал книгу о Фрейде. Только вот то, что З. Фрейд называет регрессом в психике, у Бахтина предстает совсем не регрессом, а скорее прогрессом. Почему? Наверное, выдающиеся мыслители не всегда делают все вытекающие из их открытий выводы. Смысл открытия Бахтина можно истолковать так. Каждый раз, когда в истории искусства развертывается смена циклов и отработанные, перестающие осуществлять эстетически формы уходят в прошлое, происходит возврат к исходной точке цикла, к тому, что мы называем архаикой, которая включается в качестве составленного элемента в те новые формы, становление которых развертывается в пространстве нового цикла. Нечто подобное уже утверждали наши формалисты в 20-е гг., но только они имели в виду исключительно литературу, и вопрос о смене циклов они не ставили. Хотя мы должны отметить, да, собственно, после фундаментального исследования О. Ханзен-Леве это нельзя считать нашим наблюдением, В. Шкловский с его идеей деавтоматизации, или остранения, по-своему изложил идею А. Бергсона. Не случайно остранение как универсальный прием стало отмычкой при входе в стихию смеха. Это касается и смеха. Тот прирученный модерном смех, подвергающий уничтожению все, что отклоняется от нормы, то есть от разума, что имело место на протяжении всего Нового времени, свое отработал. Он выродился. Правда, именно этот вид смеха навязывался в тоталитарных режимах. Идея социализма была нормой, а все, что ей не соответствовало, подвергалось осмеянию. Это был одномерный, сатирический, уничтожающий смех. Но это ведь не просто смех, который Бахтин обозначает как официальный. Этот смех, вызванный к жизни модерном, в то же время был показательным для всей европейской культуры в целом. Вернее, большого периода в ее истории. Иные формы смеха вытесняла не просто власть, а культура, функционирующая, в частности, и как цензура. Развертывающаяся в ХХ в. смена циклов в истории культуры потребовала иных форм смеха. И они приходят из доистории, из ритуалов и мифов, из тех форм, что еще продолжали функционировать в низовых, маргинальных формах. Ведь Чаплин, как показывает Г. Козинцев, как раз и вышел оттуда. И вот следует, конечно, разобраться в том, что приходит на смену и что нами еще не до конца осмыслено. Применительно к этой проблеме выделим несколько принципиальных аспектов. Первое – это то, что на архаических фазах в истории культуры, когда история искусства еще не началась, никакой изоляции комедии как жанра от других жанров не было. Аристотель прошел мимо того обстоятельства, что, оказывается, комедия в ее первоначальных формах есть не что иное, как пародия на трагедию11, и, следовательно, рассматривать ее как самостоятельную не имеет смысла. Тогда ничего не понятно. Да и жанров еще не было. Просто по той причине, что сами жанры еще не сложились. Это хорошо объяснила О. Фрейденберг. Критикуя опять же эстетику и подход Гегеля, она, как ученица Марра, выдвинула генетический подход и, следовательно, призвала рассматривать все те формы комического и трагического, которые существовали в виде эмбрионов тех будущих жанров, которые впервые будут рассмотрены Аристотелем уже как сложившиеся и самостоятельные. В качестве примера обратимся к мифологическому герою или, что точнее, «культурному герою». Пожалуй, самое важное, что характерно для смеха, сосредоточено в фигуре трикстера. Все выдающиеся комики, будет ли это Чаплин, Тото, Альберто Сорди, Игорь Ильинский, Бастер Китон или Аркадий Райкин, воспроизводят эту фигуру. Но ведь в истории культуры и, следовательно, мифологии было время, когда трикстера как самостоятельной фигуры не было. Это было второе лицо главного героя, который совершал героические подвиги и, преследуя какие-то благородные цели, погибал. Он сам себя возвеличивал, но и сам себя подвергал осмеянию. Юнг пишет: трикстер – это бог, человек и животное в одном лице12. Тут придется снова вспомнить Мейерхольда. Когда в конце жизни он разрабатывал замысел постановки пушкинского «Бориса Годунова», у него возникла мысль главную роль поручить Игорю Ильинскому, успевшему к тому времени уже закрепить за собой амплуа комического актера. Этот замысел не осуществился, да и спектакль не был поставлен. Но это не была лишь какая-то минутная интуиция. Все было продумано и выношено. И об этом свидетельствует следующее высказывание мастера. Так, в докладе 1925 г., посвященном спектаклю «Учитель Бубус», Вс. Мейерхольд говорит: «Правда, мы все время сидим на комедии, это очень хорошо, – мы готовим себя к трагедии, а к великой трагедии можно подойти только путем комедии – через комедию к трагедии, потому что мы подходим именно путем трюков. Но если мы этот трюковый материал не будем проверять как таковой, не будем бдительно относиться к тому, что уже до нас выработано, то мы можем иметь свой комедийный штамп, который может нас погубить»13. Следовательно, этот прием совмещения трагического и комического уже трудно назвать архаическим. Это как раз прорыв великого режиссера в тот самый большой опыт человечества, о котором писал Бахтин. Просто удивительно, как практика и теория искусства одновременно отреагировали на культурные сдвиги. Обратим внимание еще на одну архаическую черту смеха, которая сегодня, в эпоху обострившихся отношений между народами, что нередко оборачивается военными столкновениями и жертвами, особенно актуальна. Эта черта также позволяет поставить вопрос о функциях смеха – и совсем не в смысле Бергсона. Видимо, разобраться в природе смеха можно лишь в том случае, если поставить вопрос о наличии у смеха тех или иных функций. Но можно уточнить: социальных функций. Что это значит? Можно определить смысл смеха не только по тому, что таким редким талантом обладает тот или иной драматург или режиссер, но и по тому, есть ли у тех, кому смех предназначен, потребность в смехе, как, впрочем, в той или иной разновидности смеха. Значит, комическое – это не только содержание произведения, но и привносимое в это произведение публикой или обществом ожидание. Для понимания смеха на ранних этапах истории, которые обычно из истории искусства исключаются, характерно не только тесное переплетение отдельных жанров, в частности комедии и трагедии, но и то, что можно было бы назвать диалогичностью. Чтобы выявить эту диалогичность, необходимо перестать связывать смех исключительно с театральными подмостками и найти его формы, пронизывающие отправления самой жизни. На ранних этапах истории смех неустраним из процессов взаимодействия между разными этносами, сообществами, территориями, а внутри названных коллективов – между их частями. На этих этапах истории смех был выражением агона, состязания, противостояния. В реальной истории между названными сообществами постоянно возникали конфликты, которые могли перерасти в кровавые столкновения. Чтобы избежать жертв, а следовательно, и вообще столкновений такого рода, культивировали такие словесные поединки, в которых разрешались ругательства, оскорбления, инвективы и т. д. Искусством ведения таких агонов владели все стороны. Но было бы неверным такие смеховые агоны исчерпывать оскорблениями и поношениями. Такое использование смеха как раз и характерно для Нового времени, когда смех свели к одной его разновидности – сатире. Именно эту особенность смеха как раз и пытался объяснить А. Бергсон. Но нагнетание конфликтности и противостояния в агоне – только одна сторона. Это, так сказать, лишь способ довести агон до крайней степени провоцирования эмоций. Это только одна сторона такого смехового агона. Другая сторона связана с изживанием чувства вражды. Следовательно, предполагалось, что кроме оскорблений в таком агоне могли употребляться и смягчающие средства. Получается так, что такие смеховые агоны развертывались в духе катарсиса, как это описано у Аристотеля. Но на этот раз по принципу трагедии воспринималась и комедия. Вот, выявляя эту диалогичность, происходящую в форме агона, мы и получаем возможность поставить вопрос и об очень существенной проблеме – эффективности смеха, а следовательно, о его социальной функции. Наверное, таких функций у смеха может быть много. Но катартическая функция, свидетельствующая об изживании, преодолении вражды и насилия, будет одной из самых существенных. В качестве иллюстрации сошлемся на агон из истории средневековой Руси. Он происходил между тем, что позднее назовут Великороссией и Малороссией. Так, в «Повести временных лет» повествуется об апостоле Андрее, путешествующем по земле и оказавшемся на берегах Днепра. Автор утверждает, что ему понравилось одно место. Он поставил в этом языческом месте крест. Отсюда началась христианизация Руси. Место это – Киев. «И утром, встав, сказал бывшим с ним ученикам: «Видите ли горы эти? Так на этих горах воссияет благодать Божия, будет город великий и воздвигнет Бог много церквей». И взойдя на горы эти, благословил их и поставил крест, и помолился Богу, и сошел с горы этой, где впоследствии будет Киев, и пошел вверх по Днепру»14. Совсем другое наблюдает апостол, когда он появляется в Новгороде. Речь идет уже не о сакральном пространстве, а о таких нравах и привычках, которые являются истинно языческими. «И пришел к славянам, где нынче стоит Новгород, и увидел живущих там людей. Каков их обычай и как моются и хлещутся, и подивился на них. И пошел к варягам, и пришел в Рим, и поведал о том, скольких научил и кого видел, и рассказал им: «Диво видел я в славянской земле, когда шел сюда. Видел бани деревянные, и натопят их сильно, и разденутся, и будут наги, и обольются мытелью, и возьмут веники, и начнут хлестаться, чуть живые, и обольются водой студеною, и только так оживут. И творят это постоянно, никем же не мучимые, но сами себя мучат, и то творят не мытье себя, а мученье»15. Очевидно, что в этом впечатлении апостола о новгородском обычае есть оценка. А в ней – отношение к нижегородцам. Мы не поймем сути этого отношения, если не примем во внимание оппозицию между киевлянами и новгородцами. Судя по всему, автор предания о путешествии на Русь апостола Андрея представляет интересы киевлян. Автор ставит перед собой задачу продемонстрировать приобщенность русской земли к учению Христа. Посещение апостолом Андреем Руси – свидетельство такой приобщенности. Это показатель христианской идентичности славян. Однако очевидно, что из всех территорий апостол выделяет именно киевскую землю, на которой он ставит крест. Отныне славяне становятся христианским народом. А вот что касается жителей Новгорода, то получается, что они предстают еще во многом язычниками, раз позволяют себе такой странный обряд омовения. Здесь явно ощущается осмеяние этого обряда, но в то же время и самих новгородцев. Неудивительно, что эта редакция киевской летописи имела последствия. И не могла не иметь, ведь новгородцы поняли суть такой интерпретации и скрытую в ней насмешку. Они не могли на нее не отреагировать. Так появляется новгородская редакция летописи. Смысл этой редакции Е. Голубинский передает так: «Естественно, что новгородцы не желали остаться осмеянными. И вот в ответ на киевскую редакцию появилась редакция новгородская. Не хотев или не умев ответить на насмешку одинаковою насмешкой, новгородцы вознаграждают себя тем, что стараются возвысить себя над киевлянами. Говоря о Киеве то же, что и выше, редакция новгородская умалчивает о банях новгородских и вместо того говорит, что в области новгородской апостол проповедовал слово Божие и оставил на благословение свой жезл. То есть новгородцы отвечают в своей редакции киевлянам: у вас в Киеве апостол ограничился только тем, что поставил крест на пустых горах, у нас же сделал гораздо больше, заявил к нам свое благоволение более осязательным образом»16. Обратим внимание на то, что в таких смеховых агонах позволительны не только ругательства и инвективы, оскорбления и поношения. Если они и позволительны, то только в шутливом, то есть игровом духе. Иначе такие агоны лишь подталкивают к насилию. Этот смех, следовательно, исключает преимущественно сатирический, то есть однонаправленный смех, направленный на того, кого подвергают осмеянию, на сообщество чужаков, но в том числе и на себя. Лишь в этом случае смех в форме игры способен изживать взаимную агрессию и способствовать примирению. Хочется задать вопрос: что сделало искусство за два последних десятилетия, когда непонимание между двумя славянскими народами – Россией и Украиной нарастало? Все занимались собой, все обогащались. И хочется вспомнить в связи с этим Ф. Достоевского, утверждавшего, что войны вызревают в мирное время, когда развертывается вакханалия обогащения и, следовательно, разъединения. Следовательно, вина за жертвы, за кровь, что сейчас проливается в Донбассе, лежит на всех сторонах. Что подвигает нас к тому, чтобы рассматривать комическое в том числе и на том этапе истории, которая развертывается как предыстория искусства? Хочется в смехе выделить то, что интересует не только искусствоведа, но и культуролога. Искусствовед изучает смех в тех формах, в которых смех оформлен в жанр. Но этой трансформации из ритуала и мифа в жанр, а значит, в историю искусства предшествует ментальная стихия. То, что закрепляется в жанре, первоначально возникает как сгусток той или иной эмоции коллективного характера. Необходимо различать ментальность, окрашенную тем или иным эмоциональным комплексом, с одной стороны, и эмоциональный комплекс, получающий выражение уже в жанре. Для чего это различие необходимо? Мы ставим своей целью рассмотрение соотношения смеха и культуры. Но точнее было бы ставить вопрос так: тип смеха и тип культуры. Важно поставить вопрос о специфике смеха в русской культуре. Вернемся к вопросу, поставленному философом В. Базаровым. Как мы, русские люди, смеемся, смеемся ли и над чем смеемся? Смеемся много или мало? Когда такие вопросы ставишь, то тут важно посмотреть на самих себя взглядом постороннего. Как, например, у Монтескье в «Персидских письмах» восточные люди воспринимают нравы западных людей. Процитируем некоторые наблюдения над первыми спектаклями, поставленными во Франции по пьесам русских драматургов в конце ХIХ в. Они опубликованы в журнале «Театр и искусство» за 1987 г. Просмотрев спектакль «Гроза» по пьесе А. Островского «Гроза», один из французских критиков пришел к выводу: полное отсутствие у русских страха показаться смешным («Наивной душе чувство смешного неизвестно»). Русские все еще ощущают соблазн греха и тем самым продолжают сохранять средневековую ментальность. «Эти далекие люди, разумеется, с некоторыми русскими особенностями, – рассуждает один из критиков, – находятся в том же состоянии души, в каком находились наши отцы в Средние века. И эту постоянную озабоченность насчет греха, которая идет рука об руку, как ни в чем не бывало, с самыми насильническими и зверскими инстинктами, можно сколько угодно встретить в наших «мистериях». И самое забавное – то, что душевные настроения, которым у нас уже стукнуло 400 лет, выражаются неизвестными «письменными людьми», столь же наивными, как, и окружающие их современники, но и писателями, по-видимому, образованными и обладающими значительной способностью наблюдения»17. Мы уже цитировали высказывание философа начала ХХ в. В. Базарова, констатирующего в России какую-то исключительную смешливость. Такое ощущение, что в нашей культуре эта смешливость выходит на первый план и все остальное затмевает, в том числе и трагическую сторону бытия. Но так ли это? По этому поводу можно припомнить, с чего начинается известная ранняя работа Ф. Ницше о происхождении трагедии. Если исходить из того, что написано о греках, пишет Ф. Ницше, то получается, что это удивительно веселый и оптимистический, жизнерадостный народ, а жизнь греков что-то вроде сплошного праздника. Подобное поверхностное восприятие культуры греков философ разрушает. Сверхзадача его работы заключается в том, чтобы выявить трагическую сторону жизни греков. А иначе как объяснить, что в этой культуре трагическая ментальность получила выражение в жанре трагедии? И он отыскал эту трагическую сторону жизни греков. Посмотрим с этой точки зрения на русскую культуру. Можно ли согласиться с точкой зрения Мейерхольда, который не находил в России Корнеля? В 1915 г., когда он ставил в Александринском театре «Маскарад» Лермонтова, он в одном из своих выступлений задавал вопрос: «Где, укажите, у нас в России наш Корнель и наш Расин?»18 Хочется поставить вопрос так: если такая смешливость у русских наблюдается, то почему же одним из самых ярких классиков в России оказался Гоголь, который задолго до Кафки открыл абсурдизм? Вопрос почти на уровне Ф. Ницше. Дело в том, что в реальной истории встречаются культуры, логика развития которых особенно в плане становления, а следовательно, обособления и функционирования жанров отличается от логики других культур. Что имеется в виду? Не во всех культурах те самые разные эмоции, которые составляют психологию людей, получают выражение в самостоятельных и развитых жанрах. Можно выделить культуры, в которых комедия как жанр не прошла полного цикла развития и не достигла развитых форм, позволяющих говорить о самостоятельных жанрах. То же самое можно сказать о трагедии. Это не означает, что тот или иной народ не переживает эмоции, получающие выражение в трагедии или комедии. В данном случае постановка вопроса Ф. Ницше по поводу отсутствия трагедии в ментальности греков, которое он фиксирует у некоторых авторов, весьма показательна. Философ констатирует: трагическое начало у греков присутствует. Ницше делает открытие, после которого можно сказать: Винкельман отдыхает. Оказывается, ощущение трагического у греков имело место. Да и как ему не иметь места, если это тот самый народ, у которого трагическая ментальность получила выражение в трагедии как жанре? Таким образом, в некоторых культурах отдельные жанры не проходят все фазы развития, а застревают на каких-то промежуточных фазах. Может создаться впечатление, что это какие-то несовершенные культуры. Смотрите, что получается у Бахтина, когда он говорит о русской культуре. Разновидность смеха, которую он анатомирует в своей знаменитой книге, в концентрированном виде проявляется в карнавале. Так получилось, что в истории на разных ее этапах последовательно возникали разные формы выражения смеха. Иногда не последовательно, а одновременно. Но со временем некоторые из них отмирали как самостоятельные. В реальности они растворялись в карнавале, который вбирал в себя все эти формы. И в конечном счете оставался лишь карнавал. Собственно, так иногда случается и с жанрами. Но, говорит Бахтин, этого в русской культуре мы не наблюдаем19. Нет, здесь карнавал отсутствует. Не сложился. И даже усилия Петра Первого его привить не имели эффекта. А смех между тем получил выражение в разных формах традиционной культуры, которые доживают вплоть до наших дней, да и просто в формах самой жизни. Как к этому относиться? О чем это свидетельствует? Об ущербности, несовершенстве, незрелости культуры? Едва ли. Разве можно это утверждать применительно к русской культуре? Но оставим карнавал и вернемся к жанру. Конечно, комедия как жанр в России сформировалась давно. Было что подвергать осмеянию. Достаточно открыть сатирические журналы, издаваемые Новиковым. Но ведь, как уже отмечалось, комедия сопровождает трагедию. И снова задаемся мейерхольдовским вопросом: где в России Корнель и Расин? Да вообще-то здесь все трагедия. Но это несерьезно. Видимо, в ментальности русского человека есть и то и другое: и комедия, и трагедия. Но здесь какой-то особый сплав этих стихий, которые в обретении самостоятельности как бы не достигли высшей точки развития. Словно они застряли на какой-то промежуточной фазе. Вот и получается: в ментальности то и другое есть, да и как не быть, когда народ пережил три революции, Гражданскую войну и две мировые войны. А вот с жанрами четкости все же нет. Правомерно ли так ставить вопрос? Сошлемся на С. Эйзенштейна, который, как известно, много почерпнул у Мейерхольда. И когда Мейерхольд высказывался о спектакле Эйзенштейна «Мудрец» по пьесе А. Островского «На всякого мудреца довольно простоты» (известно, что в этом спектакле, поставленном в духе эксцентризма, был впервые опробован знаменитый принцип «монтажа аттракционов»), он мимо этого своего влияния на Эйзенштейна не прошел. Так вот проявивший активный интерес к восточной культуре, в том числе к средневековым формам японского и китайского театра Но и Кабуки, Эйзенштейн отметил интересную закономерность, характерную для всех этих форм и вообще для восточной культуры. Следуя логике психоанализа, а в еще большей мере – культурно-исторической школе в психологии Л. Выготского, Эйзенштейн в китайском и японском театре обнаружил те формы, которые были характерны для античной культуры и которые в ходе исторического развития были преодолены в европейской культуре. Они в своем развитии как бы остановились. Оказавшись законсервированными, не достигая того состояния, которое в западном сознании принято считать высшей точкой развития. Но это в сознании западного человека. Вот тут-то и возникает мысль об актуальности высказанной мысли автором из «Ежегодника императорских театров», а именно: русскому театру созвучен не столько античный, сколько средневековый театр. В подтверждение этой мысли опять же сошлемся на признания французских театральных критиков по поводу пьесы А. Островского. Но параллель между Средними веками и новой реальностью вообще оказалась соблазнительной. Не случайно ХХ век был назван «новым средневековьем», и этого мнения придерживался не только Н. Бердяев, но А. Швейцер и У. Эко. Но дело, конечно, не в этом. Дело в том (и здесь снова приходится вспоминать Бахтина), что смех соседствует не только с трагическим, но и со страхом, хотя Аристотель не рассматривает трагедию без провоцирования страха. Дело еще и в том, что в начале ХХ в. в русской ментальности возрождаются апокалиптические настроения. И это, видимо, определяющий фактор в том, что комическое всегда активизируется, когда развертывается надлом и распад государственных структур (а применительно к России следует говорить о надломе и распаде империи). Тот же Бахтин утверждает, что в такие эпохи развертывается карнавализация сознания. Смех провоцируется страхом, связанным с реабилитацией апокалиптики. С. Булгаков зафиксировал это возвращение к апокалиптическим настроениям в начале ХХ в. Он пишет о возрождении апокалиптических настроений в России этого времени. «Это, – пишет он, – разлито в нашей духовной атмосфере и питает такое характернейшее движение наших дней, как социализм, прорывается в кровавом и хмельном энтузиазме революций с их зелотизмом, но и с их истерическим прорывом. Наше ухо оказывается особенно чутко, когда прислушивается к биению исторического пульса хотя и отдаленных, но сродных эпох»20. Проведенная параллель вовсе не означает ущербности и недоразвитости русской культуры. Когда Эйзенштейн касается подобной консервации японской и китайской культуры на определенных состояниях, он ведь не имеет в виду ограниченность этих культур. Наоборот, мы как-то привыкли употреблять по отношению к этим культурам слово «мудрость». Они и в самом деле мудро устроены и мудро функционируют. Это только свидетельствует об их уникальности. Судя по всему, нечто подобное происходит и с русской культурой. Что имеется в виду? Всем известно, что с реформ Петра Первого в русской культуре опускались в ее бессознательное комплексы, привитые византийской культурой. В том числе и еще более древние (если, конечно, согласиться с евразийцами и, в частности, историком Вернадским) пласты русской культуры, связанные с Востоком. То и другое, кстати, активизируется в начале ХХ в. Так вот то, что происходит в России, происходит под воздействием западного искусства, в частности классицизма, барокко, романтизма. А раз классицизм, то жесткое жанровое разделение. Однако в ХIХ в. начали появляться гении, которые никак не укладывались в западную эстетику. Возникнув в ХIХ в., она стала весьма влиятельной. Все началось с Гоголя, который эстетическим установкам явно не соответствовал, хотя очевидно, что романтизм оказал на него влияние. О том, что не соответствовал, скоро забыли. Начали воспринимать, как могли и как умели. Более глубокое понимание Гоголя пришло с ХХ в. Этот железный век прояснил то, что в Гоголе не прочитывалось. А. Белый в книге о Гоголе попытался это объяснить. Вопрос о непонимании Гоголя обсуждал и Бахтин, посвятив этому специальную работу21. Проблема понимания и непонимания – универсальная проблема. Эстетика, которой придерживались художественные направления на Западе, стала барьером для понимания многих гениев, в том числе Шекспира, Сервантеса и, конечно, Рабле. Когда Бахтин пытается разобраться в причинах непонимания Гоголя, он ведет свою линию, а именно утверждает, что в Гоголе есть то, что характерно и для Рабле, то есть древние пласты культуры, предшествующие становлению жанров. Утрачен ключ к поэтике Рабле, не понят и Гоголь. Представляется, что объяснение может быть другим. Чтобы это понять, обратимся к известному в истории литературы факту – неприятию гоголевской поэтики В. Розановым. Розанов утверждал, что Гоголь оказал и продолжает оказывать громадное воздействие на ментальность русских. Можно ли возражать философу? Конечно, нет. Власть гения безгранична. Именно гению дана возможность прояснить ту неопределенную и расплывающуюся стихию, которую историки школы «Анналов» обозначили как ментальность. В. Розанов как раз и имеет в виду, что Гоголь навязал, внедрил в психологию русских тотальную, универсальную оценку. Она связана с критикой, даже якобы с отрицанием, неприятием русской действительности. В его произведениях нет ничего светлого, оптимистического, положительного. Реагируя на критику в свой адрес, сам Гоголь, как известно, в качестве положительного начала называл смех. Но этот смех у него имеет обратную, изнаночную сторону, что и ощутил Пушкин, когда Гоголь читал ему «Мертвые души». Не случайно, когда говорят о Кафке, вспоминают Гоголя и когда говорят об абсурдизме – тоже. Надо отдать должное Розанову. Он четко сформулировал то, что вообще-то подразумевалось, ощущалось, но что обходили, избегали, отвергали и выводили на первый план все-таки то, что соответствовало духу модерна, что соответствовало ХIХ в. В самом деле, ведь гоголевский смех не вписывается в установки модерна. Здесь вовсе не стоит вопрос о норме и отклонении от этой нормы отдельных персонажей, которые необходимо подвергать осмеянию. Здесь не общество судит тех, кто отклоняется от его установок. Само общество, как и представляющие его люди, изображаются как преисподняя, ад, царство смерти. Не случайно с начала ХХ в. так популярны стали гностики. И это мировосприятие вольется в экзистенциализм. Тогда и Гоголь станет больше понятным. Бахтин тоже утверждает, что эти присутствующие у Рабле образы смерти усвоены и использованы Гоголем. Видимо, новации Гоголя связаны с тем, что у него комическое возвращено к тому состоянию, когда оно не обособлено от трагического начала, когда то и другое находится в тесной взаимосвязи. Такое состояние и в самом деле не соответствовало установкам эстетики в ее западном варианте, то есть оптимистической эстетике модерна, которая с некоторых пор оказывается в кризисе и ныне, в эпоху постмодернизма, переживает очередной упадок. Вернемся к теме соотношения ментальности и комического жанра и попробуем – правда, с большим запозданием – возразить Розанову. Верно ли был поставлен философом вопрос, когда он утверждал, что Гоголь сделал большую ошибку, навязав русской ментальности четкую форму ее выражения, внедрил, впечатал ее в коллективное сознание и тем самым извратил ментальность русских? «Его (Гоголя. – Н. Х.) воображение, – пишет Розанов, – не так относящееся к действительности, не так относящееся и к мечте, растлило наши души и разорвало жизнь, исполнив то и другое глубочайшего страдания»22. Розанов исходил из того, что эта ментальность была совершенно другой, более оптимистической, жизнеутверждающей и праздничной. Но можно поставить вопрос и так. Видимо, то, что Розановым обозначается как гоголевское начало, уже присутствовало в этой самой ментальности и до Гоголя, но не могло получить выражения в жанре, причем в самостоятельном жанре. Эта ментальность и не получала выражения в самостоятельном жанре, и не могла получить по той причине, что так уж устроена русская культура. Она в принципе отвергает принцип самостоятельности, который навязывается эстетикой классицизма и вообще эстетикой в ее модернистском варианте, что, конечно, не является синонимом всей западной эстетики. Это как в японской или китайской культуре, диктующей консервировать те состояния, которые западная культура преодолевает, устремляясь к принципу обособленности жанров. Вот и получается, что Гоголь стоит у истоков того, что обычно называется трагикомедией. Но это вопрос не теории литературы, в которой теория жанров является одним из разделов, а ментальности и строения культуры. Это именно культурологический аспект смеха. Когда вопрос неприятия Розановым эстетики Гоголя обсуждает В. Базаров, он отрицает тезис философа о том, что последующие писатели и драматурги Гоголя не продолжают. Ну так ведь Базаров еще не знал, когда писал о Гоголе, что появится Булгаков. Но обратимся не к Булгакову, а, скажем, к Чехову. В самом деле, один из самых сегодня популярных во всем мире драматургов – Чехов, что вообще-то не может не вызывать гордость, он продолжает Гоголя или представляет по отношению к нему совсем другое? На эту удочку попался даже ранний Мейерхольд. Странно, но он почему-то в Чехове видел драматурга на время и даже уже констатировал, что его время прошло. И уж никак он не усматривал преемственности между Чеховым и предшествующими ему другими выдающимися русскими драматургами. Цепочка, которая им намечалась в пределах ХIХ в., на Чехове вроде бы обрывалась23. Но зато позднего Мейерхольда посетила радость открытия. В выстроенной им цепочке место Чехову все же нашлось. Не случайно он и сам обращается к Чехову. Этому, конечно, способствовало то, что у Чехова нет только и просто трагедии, как нет и комедии в чистом виде. То и другое у него существует вместе. Но сегодня открытия в русской культуре становятся универсальными. То же и с Булгаковым. Вот уж кому удалось прорваться в то, что Бахтин называет большим опытом человечества. Вот уж кому удалось реализовать то, что мучило А. Белого и что он хотел реализовать, но не всегда мог. В. Розанов утверждал, что постгоголевская эпоха в литературе и театре свидетельствует о том, что традиция Гоголя и Салтыкова-Щедрина обрывается. Едва ли это так. Другое дело, что то, что в русской культуре является ментальностью и что у Гоголя предстало в виде жанра, снова выходит за его пределы, как и за пределы вообще искусства в саму ментальность. И тогда даже после революции, как констатировал Н. Бухарин, вновь ожили гоголевские кувшинные рыла и щедринские образы. В журнале «Революция и культура» он писал: «Галерея щедринских героев, перекрасивших свои штаны, напяливших на себя другие исторические костюмы, могла бы без особого труда быть обнаружена в нашей действительности»24. Вот и получается, как пишет В. Базаров еще в 1916 г., нет у нас ни подлинной комедии, ни подлинной трагедии. Одна сплошная трагикомедия. И в искусстве, и в жизни. Да, настаивает В. Базаров, смех продолжает жить. По-прежнему «щебечут» и «чирикают» многочисленные журналисты и публицисты о своей любви к отечеству и о возрождении России и призывают других смотреть на мир бодро и празднично. Они даже восхваляют народ за его бесконечное терпение, за жертвенность, твердость и невозмутимость в бедствиях. Парламентарии тоже демонстрируют предельную активность, творя новые законы и постановления. Нельзя в связи с этим законотворческим рвением российских парламентариев еще раз не процитировать высказывание В. Базарова. Оно свидетельствует о том, что смех постоянно перемещается со сцены на улицу, в саму жизнь. «Ведь уже сорок лет тому назад отцы наши смеялись, почитывая Щедрина, – пишет В. Базаров. – Много воды утекло с тех пор, сменились поколения, народилась российская «конституция», а щедринские персонажи живехоньки; по-прежнему они возглавляют собой нашу общественность; по-прежнему – и даже еще гораздо ярче и колоритнее прежнего – пишут свои циркуляры; с неслыханной в щедринские времена непринужденностью и развязностью разыгрывают свои административные арлекинады. Коллекция «щедринских типов» – и как раз в самом центральном ее пункте – обогатилась новыми фигурами, превосходящими по своей виртуозной нелепости все, что когда-либо издавала фантазия сатирика. Но чем смешнее, тем прочнее; побить рекорд нелепости, изобрести и воплотить в административной практике такой фортель, до которого не додумался еще ни один юморист, – значит упрочить свое положение, обеспечить себе карьеру. Поэтому наш, если можно так выразиться, общественный смех наполняет весельем и радостью сердца осмеиваемых, болью и стыдом отзывается в сердцах смеющихся»25. Эти наблюдения и заключения философ сделал ровно 100 лет назад. Трудно согласиться с тем, что в русском смехе что-то кардинально изменилось.
Примечания 1 Базаров В. Заколдованное царство // Летопись. 1916, № 4. С. 204. |
|