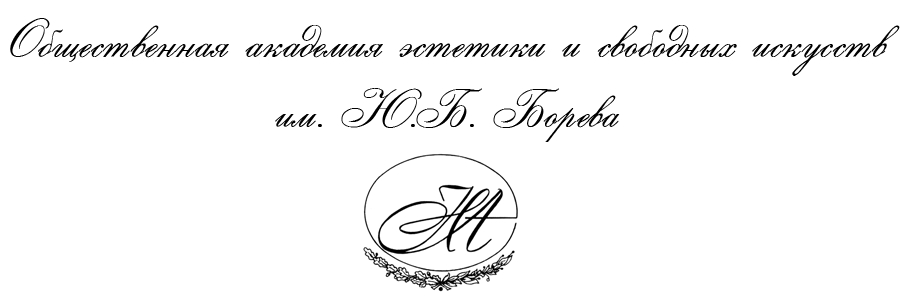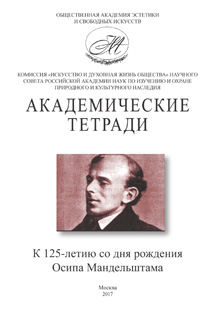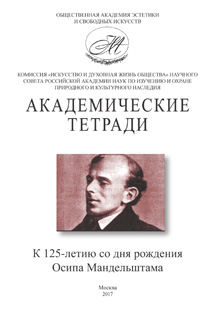 |
|
22 февраля 1933 г., выступая в ленинградском Доме печати, Осип Мандельштам назвал акмеизм «тоской по мировой культуре». В 1937 г. он мог бы говорить уже не о тоске, а о ностальгии – это тема его стихотворений, написанных в Воронеже весной 1937 г., последних дошедших до нас стихов поэта: в ночь с 1 на 2 мая 1938 г. он был арестован и погиб в пересыльном лагере под Владивостоком 27 декабря того же года. В мае 1937 г. закончилась его воронежская ссылка. Мандельштам вернулся в Москву, где начался его крестный путь, продлившийся ровно год (Москва – Савелово – Тверь – Саматиха). Однако стихов этого последнего года жизни Мандельштама мы не имеем. Н. Я. Мандельштам вспоминала, что обыск при аресте был очень коротким – все рукописи поэта были свалены в мешок и увезены на Лубянку: «Вся разница между двумя периодами – до и после 37 года – сказалась на характере пережитых нами обысков. В 38-м никто ничего не искал и не тратил времени на просмотр бумаг. Агенты даже не знали, чем занимается человек, которого они пришли арестовать. Небрежно перевернули тюфяки, выкинули на пол все вещи из чемодана, сгребли в мешок бумаги, потоптались и исчезли, уведя с собой О. М. В 38-м вся эта операция длилась минут двадцать, а в 34-м – всю ночь до утра»1.
Так стихи весны 1937 г. стали своего рода завещанием поэта: в них он предсказывает свою судьбу и судьбу своего поколения и прощается с прошлым, с той самой «мировой культурой», о которой тосковал. Собственную смерть поэт предчувствует в стихотворении «Стихи о неизвестном солдате» (февраль-март). Одновременно с этим стихотворением-«ораторией», являющимся, по мнению большинства исследователей, вершиной поэтического творчества Мандельштама, поэт создает стихи о Франции и ее выдающемся лирике Франсуа Вийоне, Тайной вечере, дантовой Флоренции, Риме Микель-Анджело, «о мученике светотени» Рембрандте, Элладе и греческой флейте, «синем острове» Крите…
Франция легла краеугольным камнем в здание его поэзии, став, в определенном смысле, как Древняя Эллада или Германия, его духовной родиной. По окончании Тенишевского училища мать поэта, стремясь дать сыну хорошее образование, отправила его учиться во Францию и Германию: учебный год 1907–1908 Мандельштам провел в Париже, изучая старофранцузский язык и средневековую культуру в Сорбонне, а в 1909 г. он слушал лекции по романской филологии и философии в Гейдельбергском университете. В 1911 г. Мандельштам записывается на романо-германское отделение Санкт-Петербургского университета. «Французские штудии» впоследствии позволили ему переводить старофранцузские средневековые песни: «О. М. привез из Ленинграда свои юношеские старофранцузские книжки еще в 22 году, когда ему заказали перевод старофранцузского эпоса. Недавно Саша Морозов разыскал в каком-то архиве вольный перевод плача по Алексею и «Алисканс». Это не просто перевод – в обеих вещах как-то странно заговорила судьба, и О. М. это чувствовал. Алексей – это обет нищеты, а Алискансом он как бы дал клятву не прятаться, когда надо защищать жизнь»2. «Жизнь св. Алексея» должна была, по словам Н. Я. Мандельштам, появиться в невышедшем 6-м номере лежневского журнала «Россия» за 1925 г. (одновременно с окончанием «Белой гвардии» М. Булгакова). Французское средневековье, которым увлекался в юности Мандельштам, вошло в его творчество любовью к готике и «вечному Виллону»3, влияние которого нельзя не ощутить в его поэзии. Парадоксальность и сложность реально сущего в поэзии Франсуа Вийона были близки мироощущению Мандельштама, которое сформировалось очень рано. Перекличка с поэтом «истин наизнанку», умиравшего от жажды у ручья и видевшего «хлеб лишь в окнах лавок», продолжалась до последних дней Мандельштама, который виртуозно владел излюбленным приемом Вийона – оксюмороном: «В прекрасной бедности, в роскошной нищете / Живу один – спокоен и утешен. /Благословенны дни и ночи те, / И сладкозвучный труд безгрешен» (15–16 января 1937)4.
Интонация Вийона в «Малом» и «Большом» завещаниях (например, в «Большом завещании»: «Я – грешник, это признаю, / Но Бог мне смерти не желает» (пер. Ю. Кожевникова) его ирония и всепрощающая мудрость сделали его привилегированным собеседником Мандельштама. Да и кто, как не Мандельштам, познал в полной мере на собственном примере силу истин наизнанку:
Вот истины наоборот –
Лишь подлый слабых бережет,
Один насильник судит право,
И только шут себя блюдет,
Осел достойней всех поет,
И лишь влюбленный мыслит здраво.
(«Баллада истин наизнанку», пер. И. Эренбурга)5
Как и Вийону, утверждавшему, что «не всем дано благополучно жить» («Баллада повешенных»),
Мандельштаму был понятен его пафос отказа:
Из рая я уйду, в аду побуду.
Отчаянье мне веру придает.
Я всеми принят, изгнан отовсюду.
(«Баллада поэтического состязания в Блуа», пер. И. Эренбурга)6
Статья о Вийоне, написанная очень рано, в 1910 г., в год, когда в журнале «Аполлон» впервые увидели свет стихи Мандельштама, и опубликованная в 1913 г. («Аполлон». 1913. Кн. 4. С. 30–35), стала одной из первых программных публикаций наряду со статьей «О собеседнике» («Аполлон». 1913. Кн. 2. С. 49–54). В статье «Франсуа Виллон» Мандельштам определяет поэтический метод акмеизма через средневековую культуру и поэзию Вийона: «Современные французские символисты влюблены в вещи, как собственники. Быть может, самая «душа вещей» не что иное, как чувство собственника, одухотворенное и облагороженное в лаборатории последовательных поколений. Виллон отлично сознавал пропасть между субъектом и объектом, но понимал ее как невозможность обладания. Луна и прочие нейтральные «предметы» бесповоротно исключены из его поэтического обихода. Зато он сразу оживляется, когда речь заходит о жареных под соусом утках или о вечном блаженстве, присвоить себе которое он никогда не теряет окончательной надежды. <…> «Testaments» Виллона пленительны уже потому, что в них сообщается масса точных сведений. Читателю кажется, что он может ими воспользоваться, и он чувствует себя современником поэта. Настоящее мгновение может выдержать напор столетий и сохранить свою целость, остаться тем же «сейчас». Нужно только уметь вырвать его из почвы времени, не повредив его корней, – иначе оно завянет. Виллон умеет это делать. Колокол Сорбонны, прервавший его работу над «Petit Тestament», звучит до сих пор»7.
Статья изобилует рассуждениями о французской готике, организующей жизнь средневекового общества в целом и поэзию Вийона в частности: «Средневековье цепко держалось за своих детей и добровольно не уступало их Возрождению. Кровь подлинного Средневековья текла в жилах Виллона. Ей он обязан своей цельностью, своим темпераментом, своим духовным своеобразием. Физиология готики – а такая была, и средние века именно физиологически-гениальная эпоха – заменила Виллону мировоззрение и с избытком вознаградила его за отсутствие традиционной связи с прошлым. Более того – она обеспечила ему почетное место в будущем, так как XIX век французской поэзии черпал свою силу из той же национальной сокровищницы – готики. Скажут: что имеет общего великолепная ритмика «Testaments», то фокусничающая, как бильбоке, то замедленная, как церковная кантилена, с мастерством готических зодчих? Но разве готика не торжество динамики? Еще вопрос, что более подвижно, более текуче – готический собор или океанская зыбь? Чем, как не чувством архитектоники, объясняется дивное равновесие строфы, в которой Виллон поручает свою душу Троице через Богоматерь – Chambre de la Divinite – и девять небесных легионов. Это не анемичный полет на восковых крылышках бессмертия, но архитектурно обоснованное восхождение, соответственно ярусам готического собора. Кто первый провозгласил в архитектуре подвижное равновесие масс и построил крестовый свод – гениально выразил психологическую сущность феодализма. Средневековый человек считал себя в мировом здании столь же необходимым и связанным, как любой камень в готической постройке, с достоинством выносящий давление соседей и входящий неизбежной ставкой в общую игру сил. Служить не только значило быть деятельным для общего блага. Бессознательно средневековый человек считал службой, своего рода подвигом, неприкрашенный факт своего существования»8. Программность этой статьи, соединившей поэзию и архитектуру в единое целое, наиболее ярко проступает в мысли о значении готики для европейской культуры и месте каменщика-строителя в истории как грандиозной постройке, созданной общими усилиями человечества: «Мандельштам ощущал пространство даже сильнее, чем время, которое представлялось ему регулятором человеческой жизни: «Время срезает меня, как монету», а также мерой стихов. Время – век – это история, но по отношению ко времени человек пассивен. Его активность развивается в пространстве, которое он должен заполнить вещами, сделать своим домом. Архитектура – наиболее явственный след, который человек может оставить в этом мире, а следовательно, залог бессмертия»9.
Тема готики как прообраза поэзии акмеизма явственно звучит в манифесте нового течения «Утро акмеизма» (1912), в котором появляется образ «мира как Богом данного дворца»10: «Строить – значит бороться с пустотой. <…> Нет равенства, нет соперничества, есть сообщничество сущих в заговоре против пустоты и небытия. Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя – вот высшая заповедь акмеизма»11. В этом утверждении Мандельштам предстает учеником французского философа-интуитивиста Анри Бергсона, лекции которого он слушал в Париже, откуда привез и его книгу «Творческая эволюция» (1907). Провозглашая закон тождества человека и его постройки, организма и организации, Мандельштам апеллирует к образу собора Парижской Богоматери: «Своеобразие человека, то, что делает его особью, подразумевается нами и входит в гораздо более значительное понятие организма. Любовь к организму и организации акмеисты разделяют с физиологически-гениальным средневековьем. В погоне за утонченностью XIX век потерял секрет настоящей сложности. То, что в XIII в. казалось логическим развитием понятия организма – готический собор, – ныне эстетически действует как чудовищное: Notre Dame есть праздник физиологии, ее дионисийский разгул. Мы не хотим развлекать себя прогулкой в «лесу символов», потому что у нас есть более девственный, более дремучий лес – божественная физиология, бесконечная сложность нашего темного организма»12.
Образ парижского готического собора Notre Dame становится центральным в первой книге стихов Мандельштама «Камень» (1912) и наглядно воплощает собой все тезисы «Утра акмеизма», которые получат дальнейшее развитие в его творчестве. Стихотворение «Notre Dame» (1912) является таким же программным, как и статьи-манифесты «Франсуа Виллон» и «Утро акмеизма»:
Notre Dame
Где римский судия судил чужой народ,
Стоит базилика, – и, радостный и первый,
Как некогда Адам, распластывая нервы,
Играет мышцами крестовый легкий свод.
Но выдает себя снаружи тайный план:
Здесь позаботилась подпружных арок сила,
Чтоб масса грузная стены не сокрушила,
И свода дерзкого бездействует таран.
Стихийный лабиринт, непостижимый лес,
Души готической рассудочная пропасть,
Египетская мощь и христианства робость,
С тростинкой рядом – дуб, и всюду царь – отвес.
Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,
Я изучал твои чудовищные ребра,
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам13.
В этом стихотворении история человечества сконцентрирована в сгусток, «прошлое, настоящее и будущее свертываются и развертываются, как веер» (Н. Струве)14. Мы видим, как работают здесь закон тождества, провозглашенный в манифесте «Утро акмеизма», тезисы о вере зодчих в возможность «загипнотизировать» пространство, о физиологической сложности произведения искусства.
Тема готики и средневековой поэзии, столь актуальная для раннего Мандельштама, имеет в дальнейшем сложную эволюцию. В?статье «Франсуа Виллон» Мандельштам проецирует образ Вийона в эпоху символизма. Вийон предвосхищает появление Верлена: «Астрономы точно предсказывают возвращение кометы через большой промежуток времени. Для тех, кто знает Виллона, явление Верлена представляется именно таким астрономическим чудом. Вибрация этих двух голосов поразительно сходная. Но кроме тембра и биографии поэтов связывает почти одинаковая миссия в современной им литературе. Обоим суждено было выступить в эпоху искусственной, оранжерейной поэзии, и подобно тому, как Верлен разбил serres chaudes (теплицы, фр. – прим. М. А. А.-В.) символизма, Виллон бросил вызов могущественной риторической школе, которую с полным правом можно считать символизмом XV в.»15. Свою задачу Мандельштам видит в разрыве оболочек символизма, его «преодолении» (В. Жирмунский). И здесь он продолжает миссию Вийона и Верлена.
Если мы обратимся к позднему периоду творчества Мандельштама, периоду не тоски, но ностальгии по мировой культуре, мы увидим, что тема средневековой Франции, связанная с готикой и творчеством Вийона, не только не уходит, но и приобретает дополнительные коннотации, претерпевая значительную эволюцию. Одно из последних известных нам стихотворений Мандельштама (18 марта 1937 г.) возвращает нас к французской теме, которая звучит уже совсем по-другому:
Чтоб, приятель и ветра и капель,
Сохранил их песчаник внутри,
Нацарапали множество цапель
И бутылок в бутылках зари.
Украшался отборной собачиной
Египтян государственный стыд,
Мертвецов наделял всякой всячиной
И торчит пустячком пирамид.
То ли дело любимец мой кровный,
Утешительно-грешный певец, –
Еще слышен твой скрежет зубовный,
Беззаботного права истец...
Размотавший на два завещанья
Слабовольных имуществ клубок
И в прощанье отдав, в верещанье
Мир, который как череп глубок;
Рядом с готикой жил озоруючи
И плевал на паучьи права
Наглый школьник и ангел ворующий,
Несравненный Виллон Франсуа.
Он разбойник небесного клира,
Рядом с ним не зазорно сидеть:
И пред самой кончиною мира
Будут жаворонки звенеть16.
Смещение акцентов характерно и для готики, и для образа Франсуа Вийона. Готика перестает быть собором Парижской Богоматери, ее имя стерто. Готика как идея и как ее воплощение подавлена Египтом фараонов, собор не назван, но названа пирамида как воплощение египетской идеи17.
Египетская тема – сквозная для творчества поэта, тема черепа разработана им подробно в «Стихах о неизвестном солдате» (февраль-март 1937 г.). Тема Египта у Мандельштама связана с темой массовой гибели людей: «миллионы убитых задешево», «аравийское месиво, крошево», «чумный Египта песок». Еще в статье «Гуманизм и современность» (1923) поэт писал: «Бывают эпохи, которые говорят, что им нет дела до человека, что его нужно использовать как кирпич, как цемент, что из него нужно строить, а не для него. Социальная архитектура измеряется масштабом человека. Иногда она становится враждебной человеку и питает свое величие его унижением и ничтожеством. Ассирийские пленники копошатся, как цыплята, под ногами огромного царя, воины, олицетворяющие враждебную человеку мощь государства, длинными копьями убивают связанных пигмеев, и египтяне и египетские строители обращаются с человеческой массой, как с материалом, которого должно хватить и который должен быть доставлен в любом количестве. Но есть другая социальная архитектура, ее масштабом, ее мерой тоже является человек, но она строит не из человека, а для человека, не на ничтожестве личности она строит свое величие, а на высшей целесообразности в соответствии с ее потребностями»18. Как мы видим из стихотворения, «другая социальная архитектура» остается в области утопии, место имеет все та же пресловутая египетская архитектура. Вот как комментирует это Н.?Я. Мандельштам: «А может, мы в самом деле ассирийцы и потому относимся с таким равнодушием к массовому избиению рабов и пленных, заложников и ослушников? Услыхав об очередном избиении, мы говорим друг другу: “Ведь это массовое явление… Что тут поделаешь!…” Мы уважаем массовые кампании, мероприятия, начертания, решения и распоряжения. Ассирийские цари тоже бывали добрые и злые, но кто остановит руку царя, когда он подает знак к истреблению пленных или разрешает архитектору строить себе дворец?
А не были ли эти избиваемые пленные той самой массой, которою мы сейчас пугаем друг друга? Всюду, где есть железный порядок, там появляется «масса» <…>»19.
По свидетельству Н.?Я. Мандельштам, поэт любил рассматривать архитектурные альбомы, в частности книгу Родена о французской готике («Les cathedrales de France». Paris, 1914, 1921). В?социальной жизни он «тоже искал гармонии и соответствия частей в их подчинении целому. Недаром он понимал культуру как идею, дающую строй и архитектонику историческому процессу… Он говорил об архитектуре личности и об архитектуре социально-правовых и экономических форм. XIX век отталкивал его бедностью, даже убожеством социальной архитектуры, и где-то он говорил об этом в статьях. В демократиях Запада, высмеянных еще Герценом, О.?М. не находил гармонии и величия, к которым стремился. Ему хотелось отчетливого построения общества, «лестницы Иакова», как он выразился в статье о Чаадаеве и в «Шуме времени». <…> Именно поэтому его не отпугивала идея авторитета, обернувшаяся диктаторской властью. Смущала его в те годы, пожалуй, только организация партии. «Партия – это перевернутая церковь…» <…> Сохранились две фотографии О. М. На одной – еще молодой человек в свитере, у него озабоченный вид и серьезное лицо. Этот снимок сделан в 22 году, когда он впервые открыл ассирийскую природу нашей государственности. На втором снимке – старик с бородой. Между этими двумя фотографиями прошло только десять лет, но в 32 году О. М. уже знал, чем обернулись его юношеские мечты о красивой «социальной архитектуре», авторитете и преодолении наследства XIX в. К этому времени он уже успел сказать про ассирийского царя: «…он взял мой воздух себе. Ассириец держит мое сердце» и написать стихи «Мы живем, под собою не чуя страны». Одним из первых он вернулся к девятнадцатому веку, назвав его «золотым», хотя знал, что наши идеи разрослись из одного из семян, выращенных в девятнадцатом веке»20.
Образ Франсуа Вийона приобретает более интимные, дружеские черты. Ни о какой аморальности Вийона нет и речи, как это было в статье 1910 г. Мандельштам называет его своим кровным братом, «любимцем», даже «грешность» его утешительна в своей понятности и человечности на фоне «беспамятства дней» сталинского режима. Если в статье он назван истцом и ответчиком в одном лице, то теперь он только истец.
В статье Мандельштам создает яркий образ Вийона-зверька: «Сухой и черный, безбровый, худой, как Химера, с головой, напоминавшей, по его собственному признанию, очищенный и поджаренный орех, пряча шпагу в полуженском одеянии студента, – Виллон жил в Париже как белка в колесе, не зная ни минуты покоя. Он любил в себе хищного, сухопарого зверька и дорожил своей потрепанной шкуркой: "Не правда ли, Гарнье, я хорошо сделал, что апеллировал, – пишет он своему прокурору, избавившись от виселицы. – Не каждый зверь сумел бы так выкрутиться". По слову Н. Я. Мандельштам, поэт и сам был этим зверьком: «Именно таким сухопарым и потрепанным зверьком ощущал себя сам Мандельштам и действительно был на него удивительно похож. Я ведь тоже любила в нем неугомонного зверька и не уставала глядеть, как он вертится белкой в колесе»21. О 1937 годе Н. Я. Мандельштам пишет: «Это был ужас, которого себе представить нельзя, и я не свалилась в яму только потому, что со мной рядом жил невероятный зверек, человек, полный духовного веселия и гармонии, который знал, что "ткани нашего мира обновляются смертью", и потому не боялся гибели»22.
Из расстриженного клирика Вийон превращается в «разбойника небесного клира», в поэта-небожителя, рядом с которым в вечности «не зазорно сидеть» Мандельштаму. Птичий язык поэзии, ее верещанье – это то, что останется до конца света.
Теперь обратимся к другому «французскому» стихотворению, написанному также в марте 1937 г. и известному под «домашним» названием «Франция». Оно также отмечено печатью ностальгии:
Я молю, как жалости и милости,
Франция, твоей земли и жимолости,
Правды горлинок твоих и кривды карликовых
Виноградарей в их разгородках марлевых
В легком декабре твой воздух стриженый
Индевеет – денежный, обиженный...
Но фиалка и в тюрьме: с ума сойти в безбрежности!
Свищет песенка – насмешница, небрежница, –
Где бурлила, королей смывая,
Улица июльская кривая...
А теперь в Париже, в Шартре, в Арле
Государит добрый Чаплин Чарли –
В океанском котелке с растерянною точностью
На шарнирах он куражится с цветочницей...
Там, где с розой на груди в двухбашенной испарине
Паутины каменеет шаль,
Жаль, что карусель воздушно-благодарная
Оборачивается, городом дыша, –
Наклони свою шею, безбожница
С золотыми глазами козы,
И кривыми картавыми ножницами
Купы скаредных роз раздразни.
3 марта 193723
Текст этого «французского» стихотворения Мандельштама, по мнению исследователей, «завораживает предельной недоговоренностью, тем, что принято называть «упущенными звеньями»24. Источники еще одного «французского» стихотворения «Реймс – Лаон», написанного на следующий день после «Франции», в названии которого фигурируют французские города, под которыми Наполеоном были даны сражения кампании 1814 г., были выявлены благодаря, в частности, воспоминаниям Н. Штемпель (они с Мандельштамом рассматривали альбом Б. Ференци «Очерки по искусству средневековой Франции» (М., 1936)), упоминался также «Собор Парижской богоматери» В. Гюго25. Для «Франции» литературных источников называлось несопоставимо больше. Однако эта несфокусированность и приблизительность, слишком широкие допущения свидетельствуют о том, что магнит, выстраивающий силовые линии стихотворения, не был поднесен.
Так, возникновение «жимолости» связывалось с названием лэ Маргариты Французской или романом Тьерри Сандра «Жимолость», на который Мандельштам писал внутреннюю рецензию (Гонкуровская премия 1925 г.). Назывался также «Роман о Тристане и Изольде» в редакции Ж. Бедье, где помимо жимолости фигурировала «коза»: «Королева поняла знак своего милого. Она заметила на дороге ветвь орешника, крепко обвитую козьей жимолостью, и подумала в своем сердце: «Так и мы с тобой, дорогой: ни ты без меня, ни я без тебя». Просьба о милости связывалась и с Пушкиным, и с французскими королями. «Фиалка… в тюрьме» вызвала ассоциации с легендой о спасении от гильотины Жозефины Богарне, которая считала фиалку своим цветком (Н. А. Петрова), с появлением фиалок ранней парижской весной (С. Стратановский) и т.д.
Возможно, в этой разноголосице ассоциаций не последнюю роль сыграло представление о сложности поэзии Мандельштама, вдохновлявшегося не только литературой, но и архитектурой, живописью, музыкой, философией, историей, естественными науками. Так, Ю. И. Левин назвал Мандельштама «самым перелитературным и перекультуренным [русским] поэтом»26. Исследователь К. Тарановский упоминает в этой связи высказывание Мандельштама, приведенное Кларенсом Брауном в его книге «Мандельштам» (1973): «Если хотите меня читать, вы должны иметь мою культуру»27.
Однако в данном случае привлечение разнообразных литературных источников лишь размывает главные образы стихотворения, которое плодотворно было бы прочитать, на наш взгляд, как стихотворение-палимпсест, где сосуществуют два текста. Первый, лежащий на поверхности, создает образ Франции, второй, выскобленный – крымский, коктебельский, проступающий сквозь «французский» текст («Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных // Я убежал к нереидам на Черное море...»). Центральный образ стихотворения, связывающий оба текста, – М. П. Кудашева-Роллан: «Франция... представилась О. М. в образе Майи Кудашевой, хотя я что-то не помню, чтоб она картавила»28 (Н. Мандельштам).
Надежда Мандельштам вспоминала: «Казарновский отметил бредовую идею О. М., которая для него характерна и выдумана быть не могла: О. М. тешил себя надеждой, что ему облегчат жизнь, потому что Ромен Роллан напишет о нем Сталину. Крошечная эта черточка доказывает мне, что Казарновский действительно общался с Мандельштамом. Во время воронежской ссылки мы читали в газетах о приезде Ромена Роллана с супругой в Москву и об их встрече со Сталиным. О. М. знал Майю Кудашеву, и он вздыхал: “Майя бегает по Москве. Наверное, ей рассказали про меня. Что ему стоит поговорить обо мне со Сталиным, чтобы он меня отпустил”»29. Этой-то милости и молил Мандельштам у «безбожницы с золотыми глазами козы», раздразнившей когда-то его в Коктебеле: тогда она была не скаредной розой, а фиалкой…
Увлечение Мандельштама Майей Кудашевой относится к периоду Гражданской войны – к 1919 г., когда Мандельштам находился в Крыму. Это объясняет утверждение самого Мандельштама о том, что «Франция» пришла, как «подступы» к «Стихам о неизвестном солдате» (1–15 марта 1937 г.) – основному стихотворению третьей воронежской тетради, вокруг которого располагаются дополнительные тематические циклы. Таким дополнительным тематическим циклом, связанным с войной, явились стихи о Франции: «Франция» с гражданской войной, ассоциирующейся с коктебельской влюбленностью в полуфранцуженку Кювилье-Кудашеву, и «Реймс – Лаон» с реминисценциями Первой мировой войны и наполеоновских войн. Н. Мандельштам вспоминала: «Работая над «Солдатом», О. М. как-то сказал: получается что-то вроде оратории. Эти стихи связаны с рядом других – параллельно им развивается тема Франции – «Я прошу как жалости и милости» и «Я видел озеро». В это время «Разрывы круглых бухт…» Тоска по Крыму не покидала О. М. В письмах разговоры о хлопотах, чтобы пустили в Старый Крым под любым предлогом – болезнь и т.п…»30.
Эпизоды, связанные с бегством Мандельштама из Крыма, присутствуют в воспоминаниях многих современников, воссоздающих пребывание Мандельштама в Коктебеле, ссору с М. Волошиным и арест в Феодосии врангелевской контрразведкой; затем прибытие в Батуми, где он был еще раз арестован меньшевистской береговой охраной, и, наконец, отъезд в Тифлис.
Эти тяжело пережитые аресты и тюрьмы в Крыму всплыли в воронежской ссылке в 1937 г., когда Мандельштам лишился работы и подвергся очередной травле: «И хочется мычать от всех замков и скрепок» («Куда мне деться в этом январе?»). В письме к К.?И.?Чуковскому Мандельштам писал: «Я поставлен в положение собаки, пса... Я тень. Меня нет. У меня есть только право умереть»31.
Воспоминание о Кудашевой и жест покаяния («наклони свою шею, безбожница») – прощение-прощание с юностью. Написано стихотворение не одновременно с приездом Роллана и Марии Кудашевой в Москву летом 1935 г., а тогда, когда Мандельштам ощутил, что стоит над разверстой могилой: предчувствием смерти проникнуты «Стихи о неизвестном солдате» (Н. Мандельштам: «Зачем тебе этот солдат?» – «Я сам этот солдат, над разверстой могилой»).
Образ полуфранцуженки Майи, запечатленный когда-то Волошиным, проступает сквозь «французский» текст: Майя – крутолобая, с золотистой челкой, козочка, газель, княгиня, ходившая пешком по берегу моря из Коктебеля в Феодосию давать уроки детям местных градоначальников.
Мария Павловна Кудашева (урожденная Кювилье) (1895–1975) была известна в русских литературных кругах как Майя Кудашева. Она писала стихи, переводила, дружила с Максом Волошиным, Мариной Цветаевой, Борисом Пастернаком, Вячеславом Ивановым, Ильей Эренбургом.
Ее французские стихи печатались во «Втором сборнике «Центрифуги» (М., 1916), русские – в сборнике «Ковчег» (Феодосия, 1920). Незаконнорожденная, Мария Кудашева родилась в Санкт-Петербурге. Ее мать была француженкой, гувернанткой в богатых русских семьях, отец – русским офицером. Майя Кювилье переписывалась с А. Белым, Вяч. Ивановым, писала А. А. Блоку (17 декабря 1914 г. Блок отмечает в записной книжке: «От Майи Кювилье – объяснение в любви»32.
О своем отце (23 декабря 1914 г.) Майя писала Блоку: «Я помню, мне было 8 лет, я только что приехала из Франции, жила в Крыму, в Ялте, с матерью в одной очень богатой и англизированной семье, где меня бранили за сказки и шалости, капризы и фантазию, – и раз, за обедом, мать семейства завела речь о новых поэтах. – Год после этого был убит мой отец на войне, я видела его портрет в газете, – и имя его я не запомнила! – А Ваше имя, которое в тот день, за обедом, сказали, я запомнила, и когда, по выходе из католического пансиона, в 16 лет, вновь услыхала его, – я вспомнила»33. В 1916 г. Майя вышла замуж за князя Сергея Кудашева, племянника Н. Бердяева по материнской линии, с которым познакомилась в квартире М. Волошина в Кривоарбатском переулке – «обормотнике». У них родился сын. Во время Гражданской войны ее муж сражался в белой армии. В 1920 г. в Крыму она узнала, что он умер от тифа. Она приехала в Москву в 1921 г. и стала секретарем П. С. Когана, профессора западноевропейской литературы Московского университета, главного редактора издававшегося в СССР собрания сочинений Ромена Роллана (Ленинград, 1930–1935), которому она начала писать и в 1934 г. вышла за него замуж. Роллан восхищался поэтическим дарованием Марии Кювилье-Кудашевой, о чем сообщал в письмах А. М. Горькому. Влюбленность Мандельштама не помешала ему в 1923 г. высказать вполне критическое суждение о поэтическом творчестве Марии Кудашевой: «Девушки и барышни, рукодельницы стихов, те, что зовут себя охотно Майями и хранят благоговейную память о снисходительной ласке большого поэта. Ваше дело проще, вы пишите стихи, чтобы нравиться. А мы сделаем вот что: – заговор русской молодежи – не глядеть на барышень, которые пишут стихи» («Армия поэтов»)34.
Облик Майи Кювилье в молодости описан в стихотворении М. А. Волошина 1913 г. «Твой детский взгляд улыбкой сужен, // Недетской грустью тронут рот…»:
Над головою подымая
Снопы цветов, с горы идет…
Пришла и смотрит…
Кто ты?
– Майя.
Благословляю твой приход.
В твоих глазах безумство. Имя
Звучит, как мира вечный сон…
Я наважденьями твоими
И зноем солнца ослеплен.
Войди и будь.
Я ждал от рока
Вестей. И вот приносишь ты
Подсолнечник и ветви дрока –
Полудня жаркие цветы.
Дай разглядеть себя… Волною
Прямых, лоснящихся волос
Прикрыт твой лоб, над головою
Сиянье вихрем завилось.
Твой детский взгляд улыбкой сужен,
Недетской грустью тронут рот,
И цепью маленьких жемчужин
Над бровью выступает пот.
Тень золотистого загара
На разгоревшихся щеках…
Так ты бежала… вся в цветах…
Вся в нимбах белого пожара…
Кто ты? дитя? царевна? паж?
Тебя такой я принимаю:
Земли полуденный мираж,
Иллюзию, обманность… – Майю.
<7 июля 1913>35
Вьющаяся и пахучая жимолость душистая (козья) ассоциируется с обликом юной Майи-козы в Коктебеле: французское название жимолости – chevrefeuille (Lonicera caprifolium, по классификации Карла Линнея), «козий лист».
Возникающий образ собора Парижской Богоматери («с розой на груди в двухбашенной испарине») вызывает ассоциацию с Эсмеральдой и ее козочкой.
Образ горлинки также указывает на Майю. В народных представлениях горлинки не только служили идеалом верной любви, но и помогали несчастным влюбленным. Вот ее описание из старинной книги: «Маленькая птичка горлинка очень красива и резко отличается от других голубей. Что же касается до миловидности и нравственных качеств, то горлинку должно признать высшим их выражением <…> Горлинки воркуют тише, нежнее, не так глухо и густо: издали воркованье горлиц похоже на прерываемое по временам журчанье отдаленного ручейка и очень приятно для слуха; оно имеет свое замечательное место в общем хоре птичьих голосов и наводит на душу какое-то невольное, сладкое раздумье <…> Надобно прибавить еще одну общую черту к голубиной характеристике: все изъявления их чувств мягки, кротки и робки. Одним словом, голубиная, кроткая природа».
Ассоциация с фиалкой совпадает с волошинским восприятием Майи, которая пришла к нему в гости с букетом фиалок: «Я ему написала, что я сочиняю стихи. Мне было 17 лет, а ему 36. Я купила фиалки, и мы пошли к нему с моей подругой Жоржеттой Бом. Он пригласил меня в Коктебель. Мне пришлось обмануть мать, чтобы к нему уехать»36.
В стихотворении «Майе» (1913) М. Волошин пишет:
Когда февраль чернит бугор
И талый снег синеет в балке,
У нас в Крыму по склонам гор
Цветут весенние фиалки.
Они чудесно проросли
Меж влажных камней в снежных лапах,
И смешан с запахом земли
Стеблей зеленых тонкий запах.
И ваших писем лепестки
Так нежны, тонки и легки,
Так чем-то вещим сердцу жалки,
Как будто бьется, в них дыша,
Темно-лиловая душа
Февральской маленькой фиалки.37
<28 января 1913 Москва>
И. Эренбург описывает свою встречу с М. Кудашевой в Коктебеле у М. Волошина в 1919 г.38: «В доме Волошина жила Майя Кудашева с матерью, француженкой. Отец Майи был русским, и родилась она в России, но картавила, как парижанка, а стихи писала по-французски <…> Ее мать была подавлена событиями, которые никак не вязались ни с ее понятиями о порядочности, ни с пьесами Ростана. А Майя, несмотря на холод, голод и прочие беды, жила своей жизнью… Дальнейшая ее судьба такова: начав переписываться с Роменом Ролланом, она поехала к нему в Швейцарию и стала его женой. Несколько лет назад мы встретились в Париже. Мария Павловна была занята организацией музея Роллана, просила меня помочь ей русскими экспонатами. О Коктебеле мы не поговорили, хотя было что вспомнить…»39. Упоминание о знакомстве с Кудашевой в Крыму в двух абзацах в книге Эренбурга разрастается в самостоятельную главу во французском издании тех же мемуаров. Последняя многозначительная фраза («О Коктебеле мы не поговорили…») с характерным многоточием помимо прочего скрывает эпизод с арестом О. Мандельштама и действиями Майи Кудашевой, пришедшей ему на помощь. Благодаря ее энергии и смелости Мандельштам был освобожден из тюрьмы: «Наутро с заявлением Волошина отправилась в город Майя Кудашева. Для подкрепления ее миссии в Феодосию приехал из Коктебеля также и Викентий Викентьевич Вересаев. Он уже и тогда почитался как классик и был всероссийски известен. Но еще больше надежды возлагали на княжеский титул Майи. Вместе с Вересаевым явилась она в белогвардейскую разведку и вручила ее начальнику заявление Максимилиана Волошина. Заявление это вкупе с княжеским титулом Майи, славой Вересаева и энергичными хлопотами полковника-поэта Цыгальского произвели должное впечатление. Мандельштам был освобожден. Вскоре он уехал из Феодосии в Батум, а оттуда в Тифлис. По пути в Тифлис он снова был схвачен и заключен в тюрьму, на этот раз уже грузинскими меньшевиками»40.
«Несмотря на холод, голод и прочие беды», а возможно, и благодаря им Майя была не только музой и поэтом, но и отзывчивым и энергичным товарищем, не оставлявшим друзей в беде. Об этом помнил Мандельштам, в Коктебеле он был влюблен в Майю, а Майя была влюблена в Эренбурга.
В воронежской ссылке, узнав о приезде М. Кудашевой в СССР с Р. Ролланом, он надеялся, что она вспомнит о друзьях своей юности и спросит о нем. Вера Мандельштама в Майю и в авторитет Роллана была велика, как утопающий, он хватался за соломинку. Но времена изменились, и Майя изменилась вместе с ними. Мария Павловна Роллан приняла правила игры в новой, советской, реальности, поэтому не искала встреч с друзьями молодости. В поднятом Ролланом вопросе о репрессиях в СССР (в беседе со Сталиным) фигурировало имя Виктора Сержа, но не Мандельштама. Оказавшись за границей, М. Кудашева искала возможности мирного сосуществования с советским режимом, строила планы на будущее и рассчитывала на то, что ей будет разрешено постоянно приезжать в СССР, что на это авторитета Роллана хватит, и даже просила в письмах А. М. Горького и его секретаря Крючкова похлопотать о квартире для Роллана и ее семьи. Лояльность М.?П.?Куда-шевой-Роллан в отношении СССР Эренбург оценил, поэтому и не заговорил с ней о друзьях юности: преждевременной смерти М. Волошина, самоубийстве М. Цветаевой и уничтожении ее семьи или о репрессированном Мандельштаме, «хотя было что вспомнить». Оба находились в почти одинаковом положении, оба стремились жить вне СССР при сохранении лояльности советскому режиму, и их молчание было необходимым условием для выполнения их роли посредников между творческой интеллигенцией СССР и Франции. Правда («горлинок») и кривда («виноградарей») – путь Майи. «Кривые картавые ножницы» также ассоциируются с «кривдой». Присутствие «марли» выдает мысли Мандельштама о смерти, как это уже было: «свист разрываемой марли» («Нет, не мигрень, но холод пространства бесполого…»).
И. Эренбург в своих мемуарах привел две ставшие знаменитыми фразы Мандельштама в момент ареста в Феодосии: «Когда его заперли в одиночку, он начал стучать в дверь, а на вопрос надзирателя, что ему нужно, ответил: “Вы должны меня выпустить – я не создан для тюрьмы”… На допросе Осип Эмильевич прервал следователя: “Скажите лучше, невинных вы выпускаете или нет?..” <…> Его вскоре выпустили, но это было лотереей – могли расстрелять»41.
Образ Франции, созданный Мандельштамом в этом стихотворении, Эренбург считал выдающимся: «Я много лет прожил во Франции, лучше, точнее этого не скажешь…».
«Карусель воздушно-благодарная», украшающая собой большинство парижских площадей, набирала обороты. Сквозь годы и расстояния Мандельштам прощался с Майей:
Несчастлив
тот, кого,
как тень его,
Пугает лай
и ветер косит,
И жалок тот,
кто, сам полуживой,
У тени милостыни просит.
(«Еще не умер ты. Еще ты не один»).
А Майя написала когда-то, не зная еще, что ей не придется окликнуть Осипа Мандельштама:
Бродит мой дух сумасшедший
По площадям пустым.
– Где ты, ушедший,
Истаявший, как дым.
Года уж брожу и брежу
– Тот, там, не ты ль?
Только эфир безбрежный
И земная пыль42.
Таковы повороты «французской» темы в позднем творчестве Мандельштама. Мы видим, что поэт укрупняет ее земную сюжетику, что позволяет ему увидеть ее развитие как бы извне, отстраненно. Это свидетельствует о смене поэтической оптики, придающей его образности почти космический масштаб.
Примечания
1 Мандельштам Н. Я. Воспоминания. М., 1999. С. 11 (Выемка). 
2 Там же. Переводы
Мандельштама из старофранцузского эпоса, подготовленные для Госиздата отдельной книгой, изданы не были и хранятся в отделе рукописей Института мировой
литературы им. А. М. Горького Российской академии наук. 
3 Вийон Франсуа (Villon Francois, наст. имя de Montcorbier, 1431 или 1432 – после 1463) – выдающийся французский поэт Средневековья, автор баллад, лэ,
рондо и др. средневековых жанров. 
4 Мандельштам О. Э. Собр. соч. В 4-х том. Т. 1. М., 1991. С. 239. 
5 Вийон Ф. Стихи / сост. Г. К. Косиков. М., 1984. С. 341. 
6 Там же. С. 342. 
7 Мандельштам О. Э. Собр. соч. Т. 2. С. 305–306. 
8 Мандельштам О. Э. Собр. соч. Т. 2. С. 308. 
9 Мандельштам Н. Я. Книга третья. М., 2006. Электронный ресурс: http://e-libra.ru/read/229600-vospominaniya.-kniga-tretya.html. С. 7. 
10 Мандельштам О. Э. Собр. соч. Т. 2. С. 322. 
11 Там же. С. 324. 
12 Там же. С. 323. 
13 Мандельштам О. Э. Собр. соч. Т. 1. С. 24. 
14 Струве Н. А. Осип Мандельштам. М., 2011. С. 181. 
15 Мандельштам О. Э. Собр. соч. Т. 2. С. 301. 
16 Мандельштам О. Э. Собр. соч. Т. 1. С. 261. 
17 Подробнее об этом см.: Успенский Б., Успенский Ф. Об одном стихотворении
Мандельштама: Древний Египет и Франсуа Виллон // Die Welt der Slaven LVII.
2012. S. 201–212. Электронный ресурс: https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/myoh05f1x0/direct/71333385.pdf (дата обращения 15.03.2016). 
18 Мандельштам О. Э. Собр. соч. Т. 2. С. 352. 
19 Мандельштам Н. Я. Воспоминания. С. 141. 
20 Там же. С. 140–141. 
21 Мандельштам Н. Я. Вторая книга. М., 1990. С. 248. 
22 Там же. С. 249. 
23 Мандельштам О. Э. Собр. соч. Т. 1. С. 254–255. 
24 Петрова Н. А. Любовь – жалость – милость в поэзии О. Мандельштама //
Известия Уральского государственного университета № 6 (85), 2010. С. 213. 
25 Стратановский С. Мальчишка-океан (О стихотворении Мандельштама «Реймс – Лаон»). http://www.newkamera.de/stratanovskij/stratanovskij_07.html. 
26 Тарановский К. Ф. Очерки о поэзии О. Мандельштама // Тарановский К.
О поэзии и поэтике. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 114. 
27 Там же. 
28 Мандельштам Н. Третья книга. М., 2006. С. 246. 
29 Мандельштам Н. Дата смерти // Смена. Май. 1989. 
30 Мандельштам Н. Третья книга. С. 242. 
31 Цит. по: Струве Н. Осип Мандельштам. С. 298. 
32 Александр Блок. Новые материалы и исследования. Литературное наследство. Т. 92. Кн. 3. М., 1982. С. 476. 
33 Там же. С. 477. 
34 Мандельштам О. Э. Собр. соч. Т. 2. С. 216. 
35 Волошин М. Иверни. М., 1918. С. 71. 
36 Носик Б. Кто ты, Майя. https://mir-knig.com/read_398478-1. 
37 День поэзии в Крыму. Симферополь. 1965. С. 117. 
38 Ср. с воспоминаниями Э. Миндлина: «Со всеми дружила и всегда оставалась
сама собой маленькая, изящная Майя Кудашева, впоследствии ставшая женой
Ромена Роллана. В известном до революции сборнике “Центрифуга” помещены ее
стихи, подписанные “Мари Кювилье”. Писала она по-русски и по-французски.
Незадолго до приезда в Феодосию она потеряла своего молодого мужа князя
Кудашева и жила с матерью-француженкой и малолетним сынишкой Сережей... В
феодосийской жизни он был еще маленький Дудука Кудашев, а его мать подписывала стихи “Мария Кудашева”. Мы все звали ее запросто Майей. Майя – давнишний
друг Марины Цветаевой, Максимилиана Волошина и добрая знакомая очень многих
известных писателей». 
39 Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Собр. соч. в 9-ти тт. Т. 8. М., 1966.
С. 305–306. 
40 Миндлин Э. Необыкновенные собеседники. М., 1979. С. 156. 
41 Эренбург И. Люди, годы, жизнь. В 3-х тт. Кн. 1. М., 2005. С. 267. 
42 Аракелова М. П., Городницкая А. А. Очарованная душа: М. П. Кудашева-Роллан // Российская интеллигенция на родине и в зарубежье. М., 2001. С. 174. 
|