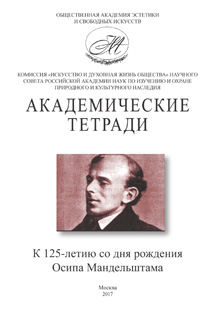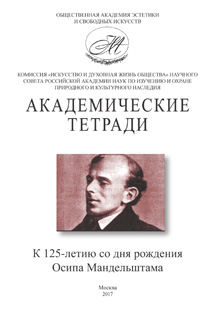 |
|
Вступление
Три небольшие статьи известных как в Японии, так и за ее пределами японских интеллектуалов ХХ в. – Вацудзи Тэцуро (1889–1960) и Сакабэ Мэгуми (р. 1936) объединяет тема маски в традиционном театре Но, насчитывающем 600-летнюю историю. Считается, что самая старая маска – старик Окина – пришла из древних земледельческих ритуалов. Она символизировала предка – покровителя рода, превратившегося со временем в доброе божество. Впоследствии появились другие маски: женщин разного возраста, воинов, демонов, животных…
Тема маски углубляется авторами не только до размышлений о специфике театрального искусства Японии в сравнении с его древнегреческим аналогом, но и до обобщений мировоззренческого порядка, например о выраженности или невыраженности либо даже отсутствии личностного начала в традиционной культуре Японии.
Вацудзи Тэцуро принадлежит к поколению японских философов, осуществивших так называемый «поворот Тайсё», смысл которого заключался в позитивной переоценке культуры, особенно художественной, своей страны, осознании ее непреходящей ценности, ее несомненного достоинства. (Напомню, что предыдущая эпоха – Мэйдзи характеризовалась мощным критицизмом в отношении традиционной культуры, якобы не способной к усвоению идей «прогресса».) Вацудзи Тэцуро – выпускник Токийского императорского университета, в 1927 г. стажировался в философской Мекке того времени – Германии. Еще в 1918 г. Вацудзи заговорил о давно позабытых японцами сокровищах древнего национального искусства, напечатав две работы: «Паломничество в древние храмы» и «Воскрешение идолов», в результате чего в обществе возник огромный интерес к собственной истории и искусству. Паломничество в храмы и музеи древней столицы Нары, начавшись после книги Вацудзи, продолжается и по сей день.
Представленная здесь небольшая работа написана японским ученым для своих соотечественников и по смыслу является продолжением указанных выше работ. Вызвать интерес к своей культуре, обозначить ее глубину, в данном случае – обратить внимание читателей на эмоциональное и интеллектуальное богатство и разнообразие традиционных форм изобразительного и исполнительского искусства родины – такова очевидная задача Вацудзи.
Если основной массив творческой деятельности Вацудзи Тэцуро приходится на довоенный период японской истории ХХ в., то Сакабэ Мэгуми представляет послевоенную генерацию японских интеллектуалов. Сакабэ, как и Вацудзи, – выпускник Токийского университета (1965), аспирант, доцент и, наконец, профессор данного университета. Он заметная фигура на горизонте японской эстетики. Как убедится читатель, обе представленные здесь статьи продолжают тематику Вацудзи, более того, используют его методологию, выводя суть явления из этимологии понятия, его обозначающего.
Однако в отличие от Вацудзи, писавшего для соотечественников по-японски, Сакабэ Мэгуми, в одинаковой степени владеющий французским и японским языками, часто пишет и печатается на французском языке. В частности, представленные здесь две статьи изначально написаны по-французски и обращены скорее к западному читателю. Но они содержат многочисленные экскурсы в особенности японского словообразования, рассуждения о специфике личности японца, включающего в свою идентичность мнение о себе коллективного «другого».
Статьи Сакабэ увлекательны, но хочется все же предостеречь читателя от некритического отношения к некоторым положениям его работ. Особенно это касается рассуждений о культуре Японии как об «игре поверхностей, зеркальных отражений и теней», которые не должны вводить читателя в заблуждение, тем более что сам Сакабэ говорит в конце о «глубине сердца», которое неизбежно должно ощущаться в настоящем искусстве.
Сакабэ Мэгуми
«Модоки», или О традиции мимезиса в японской культуре
1. Задача комедии – представить тех персонажей, которые хуже реальных людей, тогда как трагедия представляет персонажей, которые лучше, чем обычные люди. Именно так писал Аристотель в своей «Поэтике» об отличии комедии от трагедии. Обозначив такое различие, греческий философ относит его и к самим драматургам: «И вот, так как подражание свойственно нам по природе [не менее чем] гармония и ритм (а что метры – это частные случаи ритмов, видно всякому), то с самого начала одаренные люди, постепенно развивая [свои способности], породили из своих импровизаций (autoskhediasmata) поэзию. Распалась же поэзия [на два рода] сообразно личному характеру [поэтов]. А именно более важные из них подражали прекрасным делам подобных себе людей, а те, что попроще, – делам дурных людей; последние сочиняли сперва ругательные песни, как первые – гимны и хвалебные песни»1. В этом обобщенном сведении различия комедии и трагедии к природе их авторов мы наблюдаем скорее простое представление исторического факта, нежели объяснение его действительной причины. Такое объяснение в силу своей природы не дает нам ключа к пониманию сущности комедии и трагедии.
Что касается сущности трагедии, Аристотель дает свое знаменитое определение, завершающееся тем, что он называет осуществлением очищения (катарсис), определенного рода эмоций, таких как сострадание и страх2. Однако что касается комедии, то он не снабдил нас подобной детальной дефиницией, которую дал для трагедии, так как, по-видимому, та часть текста «Поэтики», которая предположительно относилась к сатире и комедии, была утрачена.
Если мы поместим себя в рамки аристотелевской теории драмы, мы естественным образом окажемся перед большой проблемой в поисках ответа на вопрос: какова сущность комедии и трагедии и каковы отношения между ними? В других работах Аристотеля мы находим пару строк на тему смеха3, а если мы займемся поисками теории комического у авторов Нового времени, мы отыщем ее у Гегеля, Бодлера, Бергсона, Плесснера и многих других, высказавшихся по этой теме. Однако мне кажется, что у нас отсутствует общая точка зрения, которая определила бы соответствующее место комедии и трагедии в их взаимосвязи в нашей духовной жизни. Возможно ли прийти к такой точке зрения путем простого сравнения различных теорий трагедии с теориями комедии, появившимися со времен Аристотеля? Или же это не тот путь, которым мы можем решить проблему, учитывая, что мы все еще не имеем возможности продвинуться вперед в изучении человеческой природы. В конце концов, не вернуться ли нам к Аристотелю как к отправному пункту в рассмотрении этой пары комедии и трагедии – именно как «пары»? Действительно, мы часто видим, что и в широкой сфере театра, и в истории человечества в большинстве регионов мира комическое и трагическое работают как некая пара. В Древней Греции, например, постановка трагедий всегда сопровождалась постановкой сатиры. В Японии представление театра Но в течение долгих лет4 сочеталось с разновидностью фарса – кёгэном. А в Корее в случаях танцевальных представлений в масках комические части перемежались серьезными.
Тогда какой же общий знаменатель может быть подведен в качестве основания для нашего исследования комического и трагического? Если бы мы отыскали позицию, стоя на которой смогли бы ответить на этот вопрос, мы как минимум продвинулись бы на несколько шагов вперед в понимании глубинной природы человека, которая, по-видимому, двулика и которая из-за узкого понимания человеческой природы ускользает от нас, живущих в так называемом серьезном обществе современной эпохи.
2. Можно легко видеть, что, для того чтобы ответить на поставленный мной вопрос, мы должны с неизбежностью начать пересмотр нескольких базовых понятий, среди которых (поскольку мы находимся в концептуальных рамках западной мысли) – мимезис5. Здесь, однако, я хотел бы предпринять некоторое отступление, подвергнув анализу японское понятие, которое почти соответствует понятию «мимезис», – это модоки. (После чего нам будет сравнительно легко исследовать такую более «продвинутую» интерпретацию мимезиса и некоторые другие западные философские понятия, прямо связанные с ним.)
Каково же значение понятия модоки? Согласно обычному употреблению этого слова, модоки почти всегда применяется как суффикс, указывающий, что нечто делается (или притворяется, что делается), имитируя форму, внешность или атмосферу (чего-то или кого-то). Например, ган-модоки – сорт жареного паштета из соевых бобов (тофу), употребляемого в вегетарианской кухне как имитация мяса дикого гуся. Или выражение: «Карэ ва сибай модоки-нисябэру» (Он говорит так, как будто находится на сцене).
Согласно наиболее древнему употреблению слова, которое восходит к эпохе Хэйан (794–1192), модоки (и его главное глагольное производное – модоку) означало, во-первых, неумелую имитацию (магахи), подделку. Такова, к примеру, цитата из «Уцубо моногатари»: «Коно нанатоси ни нару ко тити во модокитэ кома удо то фуми во цукури кавасикэрэба» (Это семилетнее дитя, неумело подражая отцу, пыталось переписываться с корейцами). И, во-вторых, это слово, в частности, означало упрек (позор, срам, укор) или критику в чей-то адрес. Процитируем «Гэндзи моногатари»: «Ё наки фурумаи-но цуморитэ хито-но модоки во ован то суру кото то обосэдо» (Он совершал столько нелепостей, хотя и опасался стать мишенью светской критики).
Третье значение модоки мы наблюдаем в народной традиции до сегодняшнего дня, что, по-видимому, является свидетельством живучести пародийного восприятия мира. Его воплощает персонаж популярных представлений, который главным образом исполняет комическую и смешную роль, передразнивая актера в роли главного героя и высмеивая его. В сакральных танцах японского синтоизма (кагура), как и в корейских танцах в масках, мы можем наблюдать игру или интерпретацию модоки – как изначальной пародии на божество или демона, который скрытно появляется в человеческом обличии. Как только мы обнаруживаем истинную подоплеку пародийной сцены, нам становится легко воспринимать все те смыслы данного понятия, которые я перечислил. На самом деле что касается употребления первого значения модоки (плохая имитация, подделка), то нет нужды дополнять его какими-либо промежуточными определениями. Что до второго значения (упреки, критика с чьей-то стороны), нам следует помнить, что пародии часто предполагают упрек или критику.
Иногда мы слышим утверждения, что существительное модоки – того же корня, что и глагол модору (возвращаться), или что это транзитивная глагольная форма от модору. Также говорится, что модоки может означать модоритоку (возражать в ответ). По-моему, гораздо более подходящим будет предположение, что корнем для модоки является слово мото (происхождение, исток) или что мото-токи (толкование оригинала) и есть изначальный смысл понятия мото-доки. Значение же «упрека» или «ответной критики» является производным от этой изначальной формы.
Но в любом случае именно в стиле модоки такой выдающийся знаток фольклора и поэт, как Орикути Синобу (1887–1953), находил прототип традиционных исполнительских искусств в Японии. Хочу привести здесь несколько его высказываний по этой теме. Орикути считает, что смысл слова модоки изначально не ограничивался значениями «упрека» или «насмешки». Согласно Орикути, в общих словах, мы думаем, что слово модоку употребляется в смысле «представить оппозицию чему-то», «противоречить» или «упрекать». Но в древности это слово, по-видимому, имело более широкое значение. По меньшей мере в истории исполнительских искусств, очевидно, оно также означало «подделывать», «истолковывать», «перетолковывать чье-то имя», «смягчать объяснения». Например, такое выражение, как хито-номодоки о фу (получающий упреки), имело изначальный смысл передразнивать, подвергаться чьим-либо насмешкам над тем, чего ты не можешь не стыдиться. Таким образом, это слово, видимо, всегда трактовалось как «подделка», «имитация».
В традиционном театре Но существует важная пьеса «Окина» (Старик), которая играется либо в самом начале представления, особенно во время праздничных торжеств начала года, либо во время освящения нового театра и т. п. событий. С незапамятных времен пьеса «Окина» состояла из трех частей: 1) сэндзай – открывающий представление танец, исполняемый актером без маски; 2) Окина – главный танец божества в белой маске, пришедшего из мира иного и вселившегося в тело старика; 3) Самбасо – третий танец еще одного старого божества, но уже в черной маске. Приведем цитату Орикути о роли самбасо: «Противопоставление Окина и Самбасо, думаю, таково: в традиции японского исполнительского искусства всегда имеется некое вступление – модоки, которое сопровождает главную пьесу.
Слово модоку (быть противопоставленным чему-либо), таким образом, применяется для обозначения некоего существа вроде демона или духа, который передразнивает и раздражает божество, ставя себя на одну доску с ним и противопоставляя себя ему. Такое происхождение понятия модоку указывает на его противоречивый характер. Когда слово модоку употребляется применительно к японскому театру, оно обретает более широкое значение передразнивания, истолкования или объяснения главного действия через поясняющее представление. Это именно та роль модоки, которую исполняет самбасо в отношении Окина: «Самбасо» исполняется в очень беспорядочной манере – в противоположность сакральной символике игры «Окина». Самбасо стал восприниматься как дополнительный проводник, упрощенно объясняющий танцы и ритуальные песнопения «белой маски» Окина. Слово модоку, таким образом, стало указывать на "перевод, поясняющую интерпретацию"»6. Представление «Самбасо», объясняющее и углубляющее смысл основной пьесы, давалось с учетом пользы для того дома, где проходило ритуальное действо. Представление сцен сёва или полета ворона, например, хотя и не имели непосредственного отношения к изначальной пьесе «Окина», оживляли застывшие смыслы, обретенные в далеком прошлом. Самбасо трактовал песнопения и танцы пьесы «Oкина», объясняя смысл религиозных действий и их содержание с целью польстить людям того дома или той деревни, где осуществлялась постановка. Такого рода интерпретация и есть raison d’etre Самбасо в отношении Окина, и такова роль модоки, которую выполняет Самбасо.
В поисках этимологии понятия модоки Орикути обратился к представлениям о нем в японской глубинке и обнаружил следующее: «Изначальный смысл роли модоки стал для меня очень ясным после просмотра мизансцен дэнгаку7, которые всегда исполняются в северных горных районах Энсю и Синсю наряду с кагура во время праздника цветов хана-мацури8. Последний праздник имеет то же происхождение, что и дэнгаку, и состоит из танцев нэмбуцу одори9 и танца знатока народных синтоистских обрядов Сёмон си. Модоки исполнял либо роль интерпретатора, либо в другое время – окоцуки (сумасшедшего), либо другого второстепенного персонажа. Но в любом случае модоки, сопровождающий пьесу «Окина», имеет характерные признаки всех трех перечисленных ролей. Подлинное определение понятия модоки – это «роль-аккомпанемент» пьесы «Окина», это персонаж, выходящий на сцену через мгновение после выхода главного героя пьесы – старика-Окина (хотя в современных постановках он может выходить вместе с главным персонажем, повторяя более строгим голосом его слова). Модоки может прятаться за личиной волшебника онъёдзи, или монаха сюгэндзя, одновременно играя и роль истолкователя, и второстепенную роль. Иногда он выходит на сцену, сопровождая демона они, который в этом случае исполняет главную роль. Тогда модоки играет второстепенную роль.
Форма пьесы «Окина» имеет несколько различных вариантов. Так называемый жрец нэги или накатобараи (исполняющий роль ответственного за обряд очищения жрец из семьи Накатоми) и кайдо-кудари (возглавлявший процессию-шествие вдоль морского побережья) дублируют главного персонажа, что добавляет разнообразия всему представлению. Актер нэги, который якобы приходит в деревню, где происходит действие, из далекой провинции, намерен сыграть роль главного персонажа пьесы – старика-Окина. Но у главного героя и у модоки есть, в свою очередь, и собственные модоки. Это окоцуки (сумасшедшие), которые играют грубо и беспорядочно. Можно обнаружить и еще одну форму модоки, присутствующую в пьесе: кокудзё (старик в черной маске). Иногда в некоторых регионах его называют самбасо; в других его могут называть сёдзёккири или же саругаку10.
В большинстве случаев очевидно, что все эти персонажи интерпретируют и развивают для непосвященных то, что говорит главный герой пьесы. Таким образом, они играют на сцене особую роль: метафорически истолковывать с учетом конкретных фактов то, что говорит и делает старик-Окина. Только их речь быстрее, полемичнее, приземленнее, чем речь главного героя; при этом они демонстрируют свою в большей или меньшей степени низменную природу»11.
Согласно Орикути, через такую комбинацию главного персонажа пьесы «Окина» и модоки проступает прототипическая структура единства японского театра; мы также видим противопоставление впервые появляющегося нового божества и старых местных демонов. «Вот что я думаю о самбасо, – продолжает свою мысль из предыдущего отрывка Орикути. – Хотя многие наши современники (первая треть ХХ в. – Е. С.) думают таким же образом (что старик-Окина – это главный, а модоки – второстепенные персонажи. – Е. С.), но с точки зрения исторической перспективы японской религиозной жизни этот порядок следует перевернуть. Сначала, видимо, в фольклоре появились демоны и духи, которые не были истинными богами, однако повсеместно они заселили сельскую местность и горы. Японцы прошлого верили, что эти божества злоумышляли против человека за то, что тот захватил их земли и поселился на них. Люди как минимум думали, что живут в окружении такого рода демонов или злокозненных духов, всегда готовых восстать против человека, и использовали все свои преимущества и возможности, чтобы либо подавить, либо обратить их в свою веру, заставив дать клятву преданности и вынудив приносить людям пользу.
В конце концов эти божества, не пожелавшие проклясть род человеческий, стали навещать людей и благодетельствовать их в течение определенных периодов года. Божества низших рангов благодаря этому обрели более высокий статус, расставаясь со своей животной природой через своего рода «очищение». Со временем их стали почитать в специальных святилищах в качестве объектов поклонения. Среди них есть как те, чья генеалогия может быть установлена, так и те, чье происхождение неясно, но которые почитаются в качестве божеств высокого ранга. По аналогии люди стали думать, что даже аутентичные божества высшего статуса тоже приносят человеку пользу. В любом случае в сельских районах Японии все еще жива сильная вера в то, что демоны или духи приходят благодетельствовать или защищать те дома, чьи хозяева их почитают»12.
Я привожу здесь несколько пассажей, в которых Орикути ясно указывает на отношения между подлинными божествами и местными демонами. Так, он пишет о наличии персонажа, практикующего ритуалы под названием модоки кайко (раскрывание рта модоки). В саругаку они называются вокаси, тогда как в эннэн маи13 он зовется модоки. В дэнгаку персонажам модоки была предназначена настолько важная роль, что они были допущены до участия в танцах, проводимых в буддийских храмах. Примером может служить Хёттоко, толстогубый комический персонаж в маске, доживший до наших дней.
Выше указывалось, что существительное модоки происходит от глагола модоку (противостоять). В традиции японских искусств мы обнаруживаем мотивы противостояния в песнях-перекличках, являвшихся диалогами божества и демона, которые впоследствии превратились в перекличку между двумя противоположными партиями-хорами ута гаки (песенный плетень).
Итак, изначально разнообразные формы модоки существовали повсеместно. Среди масок Но есть одна по имени о-бэсими, название которой происходит от глагола бэсиму, что означает «крепко сжимать рот, дабы хранить молчание». Когда божество обращается к этому духу с вопросами, дух упрямо старается держать рот закрытым или если он все-таки начинает открывать рот, то всегда или говорит что-то совсем не похожее на ответ, или просто противоречит божеству. Маска о-бэсими, таким образом, выражает эти два аспекта модоки. (В целом есть свидетельства того, что маски в Японии существовали с древнейших времен, хотя было сильное влияние масок иностранного происхождения. Эти маски получили быстрое распространение, так что следы автохтонных японских масок почти исчезли.) Маска кайко означает «заставить кого-то открыть свой рот для ответа», и тот, кого заставляют это сделать, играет второстепенную или добавочную роль (ваки-яку). Маска ситэ (главный герой) обозначала божество, а ваки – его партнера. Роль ваки вошла в интермедию кёгэн14, дробясь и разветвляясь (обнаруживая комический, передразнивающий аспект) в разных персонажах. Маска о-бэсими, хранящая полное молчание, имеет два значения: транслировать приказы верховного божества и выслушивать его. Следовательно, о-бэсими – это одновременно и демон, и божество.
В лице персонажа о-бэсими, типичного для форм модоки, можно с легкостью обнаружить проявление неопределенности: он представляется одновременно и как непокорный персонаж, и как образец лояльного истолкователя. В общем, в некоторых словах модоки можно отыскать те же неясности и двусмысленности, которые присущи персонажу о-бэсими. Например, вокаси, понятие, обозначающее персонаж модоки в фарсе саругаку; оно обычно означает «комический персонаж», а также «грех» (проступок, нарушение). Ваки, второстепенная и подчиненная роль, означает в то же время «истолкование».
И точно, из-за динамичного и неопределенного характера девтерагониста15 модоки пара «божество – модоки» смогла стать прототипом и породить почти бесконечную серию вариаций в традиционных исполнительских искусствах Японии. Можно указать на несколько серий подобных пар, начиная с пары «ниндзё (крепкий хозяин) – сайно (талантливый человек)» в традиционных синтоистских ритуалах и кончая парой «дай (великан) – сё (коротышка)» в театре Кабуки. По словам Орикути, «грош цена была бы той истории японского театра, где вовсе не описывалась бы роль модоки».
При дальнейшем изложении я буду учитывать тот факт, что все эти трансформации пары «божество – модоки» были порождены динамикой оппозиций «серьезного – шуточного», «смысла (восприятие, передача, трактовка) – бессмысленности (аннигиляция через удвоение, передразнивание)» и, наконец, «покорности – непослушания». Повторим, что благодаря такому динамизму получили жизнь несколько серий удвоений и трансформаций прототипической пары в истории японских исполнительских искусств. Согласно Орикути, современный театр Но, который иногда именуется ваки-но, изначально создавался как сценическая площадка для выступлений актеров-ваки. Так же, как изначально комические сценки кёгэн предшествовали исполнению Но. После ритуала модоки-кайко (поражения и открытия рта у ваки) или ритуала покорения демона божеством следовала игра модокисаи-но вадза, которая и была изначальной формой кёгэна. Между тем представление театра Но начинается танцем актера саругаку, копирующим модоки и повторяющим победную вступительную пляску главного божества.
Даже такая классическая пьеса, как «Окина», самая важная пьеса Но, всегда трактующаяся как «пьеса, которая является и в то же время не является пьесой Но», не избегает этого качества – быть пьесой ваки или пьесой модоки. В связи с этим Орикути следующим образом высказывается по поводу изначальной формы пьесы «Окина» в традиционном исполнительском искусстве, известном как хана-мацури16. Вот что он говорит по этому поводу: «Выход на сцену Нэги (жреца) и Мико (жрицы) сопровождается выходом нескольких модоки. В этом представлении модоки являются спутниками главного героя; это роль, привносящая разнообразие чередования серьезности и шутовства. В ранних представлениях она заключалась в простом передразнивании слов старика-Окина, но сегодня модоки повторяет их одновременно с ним или параллельно читая другой текст. Поэтому слово модоки означает в равной степени «толкователь главного героя», ведь он истолковывает его слова, представляя новые модификации (вариации на тему) его слов и действий»17.
Лично я думаю, что именно нэги был главным актером, модоки которого и был старик-Окина. В провинции Микава до сих пор бытует версия рассматривать старика-Окина как персонажа фарса саругаку. В дэнгаку при храме Хорайдзи, например, старик-Окина под именем саругаку представляет имитацию действий главного героя. Тот факт, что старик-Окина превратился в главного персонажа, является результатом запоздалого благосостояния актеров саругаку в больших городах. Японцы в течение своей многовековой истории продолжали снова и снова воспроизводить изначальные формы спектакля. В них мы обнаруживаем одну и ту же структуру: старик-Окина выступает как модоки для жреца Нэги, который, в свою очередь, является модоки-двойником персонажа Хёттоко, ведущим себя самым неподобающим образом. Хёттоко – другой пример, который мы находим в театре сато-кагура18 в районе Канто, выступает вариантом модоки в несерьезном значении, «противопоставляющего себя кому-то» или «идущего наперекор».
Подводя итог сказанному, отмечу, что, несмотря на важную роль, которую играет в представлениях современных хана-мацури пьеса «Окина», скорее всего, она стала неким дополнительным представлением, введенным довольно поздно. Представление хана-мацури главным образом делится на три части: 1) история жреца Нэги, который работал в качестве Накатомибараи (жреца из рода Накатоми, выполняющего обряд очищения) и путешествовал через несколько стран, чтобы выполнить мистериальный ритуал кагура; 2) история божества Они, который, спустившись с гор, водворился на земле, чтобы освятить ее; 3) церемония взращивания цветов хана-содатэ. Но в любом случае персонаж по имени Окина может играть здесь только второстепенную роль.
Японское исполнительское искусство и в самом деле снова и снова продолжает повторять первоначальный вариант театрального действа Но в течение многих веков своей истории. Этот процесс оказался чрезвычайно живучим, поскольку он постоянно обогащается динамизмом прототипической оппозиции главного героя и его модоки.
После столь подробного рассказа о фактическом смысле существования прототипической пары «божество – его модоки», функционирующей и претерпевающей перемены в истории японских исполнительских искусств, совсем нетрудно будет усмотреть за ней некий смысл. Я попытаюсь поэтому сделать здесь некоторые выводы, напрямую вытекающие из представленного материала.
Каков же смысл структуры традиционных персонажей, в чем заключается «матрица» японских исполнительских искусств? Иными словами, что может означать данная прототипическая оппозиция главной роли и модоки, серьезности и шутовства, значительности и пустяковости, покорности и непослушания? Что поражает нас в первую очередь? То, что данная оппозиция имеет такое широкое объясняющее поле, включающее общий регистр человеческого существования, начиная с возвышенного и спускаясь все ниже и ниже. Динамическая структура этой прототипической оппозиции предлагает нам что-то вроде мимезиса, который одновременно интерпретивен и герменевтичен; это схема, которая позволяет нам понять глубинные структуры человеческого существования даже до того, как сформировался так называемый уровень индивидуальной и сознательной личности. Две крайности жизни человека обнаруживают друг друга в прямом неразрывном равенстве так же, как в их динамической оппозиции. В то же время этот динамизм выходит за рамки аристотелевского духа (берущего в качестве стандарта «усредненного человека») и затем определяет трагедию и комедию как мимезис наиболее благородного и наиболее вульгарного типа личности соответственно. Исходя из миметической пары «главное божество – его модоки», мы не можем не прийти к укрупненной модели мимезиса (к той модели, которая превышает чисто антропологическую модель, придуманную Аристотелем) и таким образом вложить в нее иной смысл, заключающийся в понимании мимезиса в качестве некоего «стремления быть как трансцендентное Бытие, которое и есть Бог». Раз уж мы достигли модели такого уровня, будет чрезвычайно легко обогатить ее – например, отнеся ее к знанию «сакрального», которое с самого начала включало в себя как понятие святости, так и загрязнения. Или, после произведения необходимых модификаций и редукций, включением в эту модель бергсонианской идеи смеха с целью достичь более глубокого и подробного понимания данного феномена. В равной степени будет легко интегрировать в нашу схему знание раблезианского смеха или идею абсолютного или гротескного комизма Бодлера, как и его понятия о смехе вообще, обнаруживающего двойственность человеческой природы. На самом деле Бодлер писал: «Смех сатанистичен и потому глубоко человечен. В человеке он есть результат идеи собственного превосходства. Фактически смех – дело человеческое, и он по сути своей противоречив, иначе говоря, смех – одновременно знак бесконечного величия и бесконечной малости. С одной стороны, это проявление бесконечной нищеты и бесконечной малости по отношению к Абсолютному бытию, с другой – проявление бесконечного величия по отношению к животным. Это вечный шок между двумя бесконечностями. Смех вырывается из сущностного шока между этими двумя бесконечностями. Комическое, власть смеха заключается в самой смеющейся личности, а не в объекте насмешки»19.
4. Я хочу вспомнить очень интересный и замечательный факт: в корейском языке маска (имеющая более или менее сакральный характер) называется талу, что также означает «загрязнение». По-моему, здесь мы встречаемся с тем же родом одновременного употребления противоположных или даже противоречивых значений, которые мы находим, например, в латинском слове «sacer»20, а также в некоторых понятиях японского и китайского языков (в китайском языке, например, существует феномен под названием хан-кун, означающий, что один и тот же иероглиф может иметь одновременно два разных или даже противоречивых значения). В любом случае можем ли мы не учитывать этот факт в отношении маски как другого варианта одной и той же, по сути двойственной, сущности человеческих существ, как в случае с прототипом модоки? Не находим ли мы в разнообразных проявлениях человеческой природы подобную структуру почти повсеместно?
В японском языке есть слово хуру-маи (поведение, вести себя), которое может происходить из хури/во суру (подражать, симулировать, притворяться) и маи (танец). Это одновременно может означать как игру людей на сцене, так и повседневное поведение. Здесь мы видим другое проявление все той же двойной структуры, на этот раз доказывающее отсутствие границы между театральной игрой и повседневным поведением. По большей части в поведении человека может сохраняться след памяти, хоть и очень слабый, о древних танцевальных представлениях и игры главного божества и его модоки. Фактически модоки может являться прототипом хуру-маи или человеческого поведения, или, если угодно, человеческой игры вообще. Иными словами, модоки, воплощенный мимезис, является, осознает и трактует себя преимущественно в смысле человеческого хуру-маи. И в этом причина того, почему человеческое существо отражает и представляет себя в зеркале разнообразных аспектов модоки.
5. У нас есть еще одна нерешенная проблема: имеет ли значение расширенный и обогащенный вариант структуры модоки, которую я здесь обозначил, для этики? И каким образом? Я позволю читателям возможность самим ответить на этот вопрос. И все же одно для меня очевидно: игра модоки, который передразнивает воплощенное божество и противоречит ему, напоминает нам, что мы не боги, даже если можем быть внезапно охвачены их духами. И разве мы вдохновляемся гуманизмом и чувством юмора больше, нежели древние обитатели японского архипелага?
Сакабэ Мэгуми
Маска и тень в японской культуре: имплицитная онтология японской мысли
1. Несколько месяцев назад в Париже я посмотрел фильм Одзу Ясудзиро21 под названием «Осень семьи Кохаягава». Кинолента повествует о трех поколениях семьи производителей сакэ в г. Осака. Как и в большинстве работ Одзу, вы не найдете здесь ни драматического сюжета, ни особенно трагических событий. Но я все равно (может быть, из-за своей тогдашней временно одинокой жизни на чужбине) был глубоко впечатлен неизменным лиризмом и чувством юмора, столь характерными для Одзу.
И в то же время фильм показался мне неким похоронным маршем по японской традиционной культуре, которая теперь (1982 г. – Е. С.) находится на грани исчезновения с мировой арены. Сегодня было бы невозможно найти где-либо в Японии – сколь бы ни были интенсивны ваши поиски – подобного типично японского осеннего лиризма, продемонстрированного Одзу. И все это по причине стремительных темпов исчезновения традиционной мозаики японской общинности и ее обычаев, какие не наблюдаются больше нигде в мире.
Я только что сказал о «типично японском осеннем лиризме». Само собой разумеется, я имел в виду как метафорический, так и буквальный смысл. Ведь с каждым днем с японского архипелага, особенно вокруг больших городов, почти повсеместно исчезают чистые осенние сцены природы. Но и в области духовной культуры осенний лиризм исчезает так же быстро. И, как осенний лиризм во внешнем мире, ежедневно, мало-помалу, лиризм осени выхолащивается из наших сердец. Я имею в виду традиционно японское чувство эфемерности человеческого существования и все его ощущения, связанные со смертью.
То, что я собираюсь сказать, будет, может быть, всего лишь своеобразной ностальгией и похоронным маршем, подобным фильмам Одзу. И все же я надеюсь добавить кое-что от себя, попытавшись обнажить некие черты японской культуры, модели традиционной мысли, которые все-таки сумели проявиться в фильме Одзу. Я попытаюсь это сделать, выявив лейтмотив его киноленты.
Что особенно поразило меня в этом фильме, так это некоторые простые телодвижения (например, усаживание или вставание) женщин, особенно двух дочерей в возрасте 20–30 лет, которые очень напоминают пластику актеров театра Но. Не знаю, намеревался ли Одзу специально достичь такого эффекта или это получилось естественным образом, но следует учитывать тот факт, что в традиционных буржуазных и мелкобуржуазных японских семьях телесная пластика молодых женщин обычно формировалась под сильным влиянием искусства чайного ритуала или танцев театра Но. В этой связи мы вполне можем утверждать, что замечательным качеством японской культуры является практически повсеместное проникновение в повседневную жизнь несколько церемонных телодвижений.
Нет нужды приводить здесь современные психоаналитические теории формирования телесного схематизма у детей или социологические обзоры М. Маусса22 о человеческом поведении, чтобы понять, что грань между ритуализированными телодвижениями и движениями, считающимися «природными», «естественными», в определенной степени очень расплывчата; и в самом деле, мы не всегда можем с легкостью различать их. В движениях человека мы всегда видим связь с другими человеческими существами, а временами – и с Тем, Другим, невидимым и трансцендентным.
Что примечательно в японской культуре, так это именно существование тонких и трудно уловимых отношений между «Я» и «другим» и поэтому, как результат, наличие более неопределенной, нежели в западной культуре, грани между естественными и ритуализированными движениями. Попробую пояснить это на примере проблемы маски сучетом сходства/различия между «Я» и «другим».
2. Прежде всего отметим следующие своеобразные факты, относящиеся к японскому языку. В нем имеется лишь одно слово, обозначающее маску и природное лицо, – омотэ. Иногда омотэ имеет значение маски (в театре Но и в традиционных придворных танцах); иногда же омотэ обозначает лицо. (Я думаю, что то же бывало и с греческим словом prosopon23, хотя я не хочу сейчас вдаваться в детали этого случая.)
Вернусь к японскому языку. Есть еще одно очень древнее выражение – омодзаси, которое означает черты, в особенности черты лица. Дзаси (саси, сасу – «указывать на», «целиться в», «протыкать») означает направление, или, я бы сказал, интенцию (включая сюда, если угодно, феноменологическую интенцию в гуссерлианском смысле). Сегодня мы обычно пользуемся выражением манадзаси. Мана – значит «глаз». Соответственно, манадзаси означает «пристальный взгляд», «уставиться». Между омодзаси и манадзаси есть заметная разница. Какого рода? Думаю, она заключается в том, что омодзаси (выражение лица, умысел, намерение) есть комплекс многомерной интенциональности, тогда как манадзаси по сравнению с омодзаси есть интенциональность одномерная, или, если точнее, однонаправленная.
Другими словами, омодзаси есть одновременно то, что видит «другой», и то, что вижу я сам, а также может быть и то, что видит «сам как другой». Все равно что сказать: этот мир включает «себя в себе», так же как и «другого», и, более того, включает «себя как другого». Иными словами, он уже включает в себя структуру взаимности и обратимости.
С другой стороны, как ясно описал этот феномен Сартр, манадзаси (пристальный взгляд) заключается лишь в том, что он видит в одном направлении. Поэтому, по Сартру, исходя из однонаправленной пристальности манадзаси совершенно невозможно преуспеть в выстраивании истинного взаимоуживания людей, требующего многонаправленности взглядов24.
Лично мне по вкусу слово омодзаси, поскольку, как видим, это очень элегантное и изящное понятие, прямо указывающее на истинно должное, то есть на неэгоистическое устройство человеческого общества. В современной Японии, к сожалению, это слово практически вышло из употребления. Предполагаю, что это, по крайней мере отчасти, произошло вследствие негативного влияния Сартра на японских философов, которые предали забвению такое прекрасное, богатое смыслами выражение. В любом случае из лингвистического анализа структуры омо-дзаси (то, что видит «другой», наблюдая за самим собой и одновременно наблюдая за собой как за «другим») следует естественный вывод, что понятие омотэ, лежащее в основании словосочетания омо-дзаси, обладает той же структурой: это то, что видит «другой», то, как он видит самого себя, и то, как он видит «себя как другого».
Может быть, вам известно, что перед выходом на сцену актер театра Но надевает маску в кагами-но ма (зеркальной комнате), которая по традиции считается сакральным местом. Здесь актер превращается в духа предков из потустороннего измерения. Более того, за сценой имеется кагами-ита – так называемая «зеркальная доска» с изображенным на ней старым сосновым деревом, символизирующим божество. Хотя эта доска и не является настоящим зеркалом, обратим внимание, что на сцене театра Но собственно зеркальная сущность обнаруживается почти везде – как символически, так и реально.
В зеркальной комнате кагами-но ма актер надевает маску; в зеркале он видит либо свое собственное лицо, либо маску; в то же самое время его видит маска, и, наконец, он видит себя, превратившегося в божество или демона. Затем он выходит на сцену в качестве актера, переодетого в божество или демона, или (что то же самое) как собственно демон или божество, воплотившееся в этого актера. Иначе говоря, актер выходит на сцену, став «другим», или как «другой», «превратившийся в себя».
В данном случае мы наблюдаем типичное проявление структуры омотэ, о которой я уже говорил ранее. Что нам теперь важно отметить, так это факт, что структура омотэ очевидно отражает структуру маски, одновременно отражая и структуру самого лица. Смысл здесь в том, что лицо – это то, что видит «другой», наблюдая за самим собой и одновременно рассматривая «себя как другого».
Мне представляется, что именно такова общая структура (японской культуры. – Е. С.), лежащая в основании той характеристики японского языка, которую мы здесь используем, а именно: употребление одного и того же слова для указания и на маску, и в то же время на реальное лицо. Вспоминается, что в латинском языке также слово «персона» означает и личность, но одновременно – в своем первоначальном смысле – и маску. Однако в культурной истории Японии у нас не было такого исходного пункта развития человека, как «личность» (persona). В римский период она рассматривалась как «маска», а в результате периода господства христианства личность стала гипостазироваться25 как некое основополагающее понятие. Затем, уже в Новое время, это понятие достигло трактовки сущности каждого индивидуума как «автономной личности» или человека, обладающего качеством «личностности». Я размышляю, было ли отсутствие личности несчастьем для нас, японцев, или нет. Определенно это сложная и трудно разрешимая проблема. На настоящий момент, однако, я просто ограничусь констатацией большой разницы между западными и японской культурами.
3. Есть и другое чрезвычайно важное измерение, которое включает в себя понятие омотэ. Как мы уже видели, слово «омотэ» имеет значение «маска», «лицо», но, заметим, в то же самое время оно означает «поверхность»26. Но что удивляет меня, так это то, что омотэ с коннотацией «поверхность» вовсе не означает в японском языке и мышлении «явление» в противоположность какой-либо «идеальной сущности» (как в случае платонизма) или же «сущности реальной» (как в кантианской вещи в себе). Однако правда, что слово омотэ иногда употребляется для обозначения экстерьера, противополагаемого интерьеру (например, омотэ как внешний облик дома). Но слово омотэ как генетически (этимологически), так и семантически противоположно слову уратэ (внутренняя часть). Омо-тэ и ура-тэ, таким образом, по крайней мере in principle, всегда резко противостоят друг другу, и в то же время они комплементарны. Подобно нашему повседневному миру видимость и невидимость – очевидно антагонистичны. Забегая вперед, решусь констатировать, что в японской традиционной мысли видимость и невидимость в принципе всегда строго противоположны27.
Дзэами (наряду со своим отцом Канъами), будучи основателем театра Но, подробно проанализировал феномен рикэн-но кэн (взгляд со стороны, сторонний взгляд, взгляд с расстояния). Согласно Дзэами, настоящий актер обязан всегда видеть свой образ «со стороны» и даже сзади, со спины: «Что же касается танца, то здесь надобно знать правило, которое гласит: «глаза – впереди, а разум (сердце) – позади» (мокудзэн – синго). Это выражение означает: «глазами смотри вперед, а разум-сердце расположи позади». Это значит, что актер смотрит вперед телесными глазами, но его внутреннее духовное зрение должно быть направлено на вид сзади. Это решающий элемент в овладении тем, что я ранее называл «движение помимо сознания». Внешний вид актера, видимый зрителем из зала, это, с одной стороны, есть «удаленный глаз» (рикэн) самого актера, его внешний образ. C другой – то, что видит сам актер, формирует его собственный «внутренний образ» (гакэн), но это не есть удаленный взгляд. Чтобы увидеть себя со стороны, актер должен расположиться на месте зрителя. И только тогда можно и вправду сказать, что он действительно постиг природу своего облика. Потому что для актера понять свой облик значит, что он полностью контролирует пространство не только слева и справа от себя, но также спереди и сзади. Часто бывает так, что средний актер смотрит только вперед и по сторонам и никогда не чувствует, как он выглядит сзади. Но если актер так и не научится чувствовать, как он смотрится сзади, он не научится осознавать и другие возможные изъяны в спектакле. А вот как раз благодаря «стороннему взгляду» у актера появляется возможность обрести видение себя с позиции зрителей, достичь непостижимого для обычного глаза визуального знания своего тела и создать образ, исполненный изящества и гармонии. Такое действие воистину представляет собой «расположение разума-сердца позади». Повторюсь, что актер должен выработать в себе способность видения себя как зритель, постичь истину о том, что твой собственный глаз таинственным образом способен видеть тебя самого со стороны; ты можешь обнаружить в себе навык (умение) постичь в совершенстве Целое – то есть то, что слева и справа, и то, что спереди и сзади. И если актер сподобится достичь этого, его несравненный облик будет элегантен подобно цветку или драгоценности и будет служить живым свидетельством такого понимания»28.
Позволю себе привести другой пример, относящийся к взаимообратимости видимого и невидимого. В традиционной поэтике и эстетике Японии (включая драматургию Но) наряду с видимым сосуществует и невидимое, которое называется югэн, это род тонкого видения, который показывает обычно сокрытое или невидимое (иногда это мир, населенный мертвыми фантомами, – юкай).
В любом случае в традиционной японской мысли нет ни категорий картезианской субстанции29, ни какого-либо иного рода жестко фиксированного дуализма души и тела, внешнего и внутреннего, видимого и невидимого. Нет ничего более чуждого японской мысли, чем картезианский дуализм.
Пожалуй, Японии, чтобы остаться верной традиционной мысли, нет нужды ни обращаться к платонизму, ни пересматривать онто-тео-телеологическую метафизику. Короче говоря, в японской духовной традиции нет ничего, кроме своеобразной поверхностности, или, иначе говоря, нет ничего, кроме сети «зеркал», которые, в принципе, всегда обратимы одно в другое.
Как я указывал ранее, на сцене Но, включая сюда зеркальную комнату (кагами-но ма), вокруг которой располагается целая система символических и физических зеркал, происходит одна только игра разнообразных поверхностей или разнообразных отражений (считая таковыми, разумеется, и постоянную взаимную перекличку сольного пения утаи и хора дзи-утаи). Можно сказать, что здесь обнаруживается некая разновидность письменности или «текста», содержащего в себе разнообразные перемежающиеся слои и измерения. Мы не находим, следовательно, никаких следов «фоноцентризма». В традиционной японской культуре нет ничего, кроме вечной игры строго не различающихся идентичностей. Даже «лица» в местоимениях фиксированы нечетко. На сцене Но даже мир мертвых призраков (юкай) и наш мир, мир земной, то есть невидимый и видимый миры, в конце концов становятся взаимозаменяемыми и обоюдно совместимыми.
4. Нет ничего, кроме поверхностей, нет ничего, кроме омотэ. Только отражения, только тени. И посему никаких субстанций, ничего фиксированного в своей аутентичности. Нет ничего, кроме мира разнообразных и бесконечных метаморфоз.
Опять же я могу привести показательную особенность японского языка. Слово кагэ, обозначающее тень, в то же самое время означает и свет. Мы говорим «цуки-кагэ» (лунный свет) или «хо-кагэ» (свет огня). В связи с этим вспоминается мистическое видение Иоанна Креста30, подчеркивавшего взаимодействие тени и света. Это напоминает, например, и факт прозрачной бутылочной тени, которая указывает (символически или метафорически) на способ существования всего земного мира. Лично я думаю, что существует гораздо больше совпадений между мистическим созерцанием Иоанна и прозрениями японской традиционной мысли относительно хонгаку – исконной просветленности тэндайского буддизма31.
Вспоминается и другая примечательная особенность слова «кагэ»: кроме значения тени, света оно также имеет значение образа, силуэта. Так, мы говорим «хито-кагэ» (силуэт человека), а также употребляем выражение омокагэ (черты, выражение лица: омо, омотэ). Омо-кагэ означает примерно то же, что и омо-дзаси, которое я упоминал ранее. Теперь, приняв во внимание все значения слова кагэ, мы можем сказать, что весь наш мир представляет собой не что иное, как кагэ. Ведь в самом деле в мире существуют одни только отражения. Нет ничего, кроме отражений: это означает, что не сущеcтвует ничего, что не являлось бы отражением в последовательности или взаимности; не существует ничего, кроме перемен, кроме событий; ничего, что не менялось бы бесконечно.
В японском языке есть слово уцуру (быть отраженным) и слово уцусу (отражать). Но что поражает, так это факт, что слово уцуру также означает «проходить, меняться» (как в выражении токи гауцуру – время проходит). Есть выражение уцуцу, означающее «осознавать свое присутствие в реальном мире, бодрствовать» (см.: уцуцу-гокоро – осознание реальности, живой контакт с реальностью). Я не уверен в прямой лингвистической связи между словами уцуцу и уцуру. Но думаю тем не менее, что между этими словами потенциально существует близкое родство. Тем не менее состояние сознания уцуцу всегда считалось отчетливо неотделимым от состояния сна или безумия, хотя формально и семантически оно противоположно сну и безумию. Замечу, что мы часто используем выражение юмэ-уцуцу (то ли сон, то ли явь) для обозначения своего рода экстатического чувства или чувства крайнего замешательства в нашей повседневной жизни. Можно сказать, что под сознанием яви-уцуцу мы постоянно подразумеваем обширную сферу мечтаний, снов или онеирических состояний32, которая отражается в мире яви. Допускаю, что мы не можем точно сказать, какой из этих миров является отражением, а какой – оригиналом (что отмечает даосская философия33, имевшая огромное влияние на традиционную японскую культуру). В любом случае это то же самое, что и медитация на берегу глубокого водоема, в котором отражается мир, как это впечатляюще описал Гастон Башляр34 в «Воде и снах». Мы не можем различать, что есть более истинная и глубокая реальность: то ли образ, то ли его отражение в глубокой воде. Можно было бы припомнить и некоторые впечатляющие сцены из фильмов Одзу, которые сняты на берегу моря, реки, озера...
Есть еще слово уцусэми. Его использовали издревле, чтобы напомнить об эфемерности человеческой жизни. Оно часто пишется китайскими иероглифами, обозначающими «пустоту» и «цикаду». Но изначально в японском языке оно писалось как уцуси-ми (уцуси – реальный, земной; ми, оми – тело, человек). Уцуси-ми, таким образом, означает: человек на земле, земное человеческое существо, которое есть не что иное, как отражение чего-то невидимого и трансцендентного...
5. Ничего, кроме омотэ, не существует. Ничего не существует, кроме поверхностей. Ничего не существует, кроме кагэ. Ничего не существует, кроме отраженных отражений, которые бесконечно изменчивы, преходящи. Тогда что означает «думать»? И что «думают» люди?..
По-японски «думать» будет омоу (омо-фу). «Омоу» означает думать или размышлять (омо-и, омохи – мысль, размышление, чувство). Чем же является омо-у или омо-и? Можно сказать, что в омо-и собраны и отражены (уцуру) разные поверхности (омотэ) или разные отражения (кагэ) души.
Когда мы думаем, даже когда медитируем в одиночестве, мы собираем, концентрируем Целое-омотэ, Целое-кагэ: все, что видимо другим, что видит само себя (включая, может быть, невидимое, призрачно-мертвое), и, возможно, всё, что видит себя как другого. В результате омо-у (думать, размышлять, медитировать) означает собирать, концентрировать всё, что видимо; всё, что отражено и преходяще (уцуру) в мире, и, наконец, всё, что видит себя как другого, как уцуси-ми.
Но что же все-таки отражено в нашем Я или в общечеловеческом существе как уцуси-ми? Каково общее основание каждого, чье бытие отражается во всех существах, но, возможно, само по себе не отражается нигде?
Без всякого сомнения, согласно традиционной японской мысли, мы по меньшей мере можем выразить общее основание, особенно в народной культуре, только косвенно и метафорически. Такое общее основание именовали по-разному: например, это путь – в даосском смысле – или пустота, ничто.
И все же я полагаю, что смысл знаменитой гетевской сентенции в конце «Фауста» «Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis» (которую я бы перевел или скорее истолковал как «Всё, что преходяще в этом мире, – это метафора»35) с незапамятных времен очень знаком нам, японцам.
В течение долгих лет существования нашей традиции театра Но мы пытались выразить это глубокое, невыразимое чувство, глубочайшее омо-и наших сердец посредством очень легких жестов, очень сдержанных и слегка ритуализированых. Например, легкий наклон маски-омотэ воплощает таким образом некое омо-дзаси, которое чрезвычайно тонко, рафинированно и которое и есть югэн.
Даже сегодня, когда Одзу сдвигает или слегка изменяет обычную перспективу, располагая камеру очень низко, и заставляет, к примеру, двух молодых сестер в трауре по отцу несколько церемонно подниматься на фоне голубого осеннего неба (присутствующего в большинстве кадров), тогда мы внезапно начинаем переживать то состояние чувств, о котором я говорил: мы явственно ощущаем некое почти молитвенное состояние, сокрытое в глубине наших душ.
Вацудзи Тэцуро
Маска и личность (Мэн то персона) (ПСС, т. 17. С. 289–295)
Мы окружены бесчисленными вещами, и они представляются нам полностью понятными, но только до тех пор, пока мы не начинаем ставить о них вопросы, размышлять над их природой. Как только мы пытаемся делать это, выясняется, что на самом деле нам абсолютно неясна их суть. «Лицо» (гаммэн36) – одна из таких вещей. Вряд ли найдется обладающий нормальным зрением человек, который не знал бы, что такое лицо (гаммэн), и тем не менее нет ничего более загадочного.
У нас есть возможность взаимодействовать с другими людьми, не зная их лиц (као37). Нам в этом помогают посредники в виде «словесных выражений» (хёгэн38): писем, донесений и т.п. Однако в этом случае мы зачастую не имеем представления о лицах наших адресатов, хотя, конечно, мы не считаем их вовсе безликими. В большинстве ситуаций мы начинаем бессознательно воображать лица других, исходя из их отношения к нам, что явствует из употребленных ими языковых выражений или от характера их почерка. Впрочем, обычно этот процесс достаточно смутен, и, когда мы вступаем с корреспондентами в реальный контакт, мы совершенно ясно чувствуем, совпали ли реальные ощущения с нашими предположениями или нет. Нечего и говорить о тех ситуациях, в которых мы знаем других в лицо, мы просто не сможем вообразить их безликими. Думая о художнике, написавшем картину, которую мы созерцаем, мы представляем его лицо. И когда вспоминаем о друзьях, их лица всплывают в сознании вместе с их именами. Конечно, кроме лиц наша память о других людях связана также с их позами, осанкой, походкой и т.д. Однако, даже если бы можно было стереть из памяти о человеке все вышеперечисленное, останется лицо – это именно та вещь, которую никак нельзя проигнорировать.
Бюсты и портреты демонстрируют это с наибольшей наглядностью. Художник способен свести образ личности к собственно лицу, и все же мы вовсе не будем ощущать его модель лишенной туловища и конечностей. Глядя на бюсты и поясные портреты, мы обычно домысливаем все тело человека целиком. А вот если бы нам был представлен только человеческий торс без головы, мы, даже считая его воплощением какой-либо прекрасной и живой модели, определенно не смогли бы воспринять этот торс как выражение ее личности. Конечно, современные требования к начинающим художникам предполагают, что они будут сначала «прорабатывать» изображение физического тела, того же торса, поскольку ориентируют в первую очередь на изображение физической формы человека, а вовсе не на выражение его личности. Что же можно сказать о том, что когда-то представляло скульптуру определенного человека, но вследствие некоего повреждения (скажем, вследствие того, что голова и конечности отломились) стало торсом? И тем самым превратилось в некий фрагмент. Если посмотреть с такой точки зрения, неважно, может ли отдельно взятая голова выражать личность или нет; а вот торс, отделенный от головы, все равно остается простым фрагментом. Из сказанного понятно, насколько важную для существования человека роль играет лицо.
Но роль маски (мэн/цура39) еще более всеобъемлюща. У нее удалена черепная коробка и уши, оставлена только лицевая поверхность. Для чего была создана маска? Чтобы дать возможность определенного рода персонажам выразить себя на сцене. Прежде всего маски были необходимы для представления пантомимы в религиозных церемониях. По мере превращения таких пантомим в драму и по мере возрастания сложности таких персонажей маски также разнообразились. Древние греки довели искусство театральных масок до совершенства. Японцы же продолжили традицию создания масок и блестяще ее развили.
Те, кто видел в музее Хёкэйкан маски Гигаку40 и театра Но прошлой осенью41, убедились в том, какое множество шедевров японских масок было там представлено. По моему скромному мнению, мы не найдем подобной изысканности среди греческих деревянных масок. Последние просто «обозначают роль», скажем, короля или королевы и только. Они даже не пытаются достичь тщательной типизации выражения лица (хё:дзё42), как это представлено в масках Гигаку. К тому же у греческих масок сохраняется в отличие от масок Но единственная застывшая эмоция. Художественное же мастерство японских мастеров несравненно. Не указывает ли данное обстоятельство на то, что глаз японских скульпторов сфокусирован скорее не на собственно физической красоте, а на личности, пусть и в физической оболочке? И, следовательно, на мимическом волшебстве поверхности лица (гаммэн) этой личности.
Но подлинное превосходство этих масок не может быть понято, если просто выстроить их в ряд на полке и созерцать их, как созерцают скульптуру. Маски именно как лицо отделены от тела и, в частности, от головы как раз потому, что их нельзя трактовать просто как статичную скульптуру. Это значит, что они есть то, что демонстрирует нам живого, подвижного человека – личность, совершающую определенные ритуализированные действия в то время, когда на ней надета маска. И если это так, то в сравнении со скульптурой, которая по определению статична, маска по сути своей динамична. И истинное превосходство маски проявляется именно в условиях движения надевшего ее актера.
Когда человек надевает маску Гигаку для конкретного представления, она начинает демонстрировать, насколько остро она типизирует образ (выражение) счастья, злости и т.д. и насколько близко к реальности она формирует личность, характер персонажа. В этот момент мы отчетливо видим, что все несущественное для данной конкретной эмоции как бы стирается с ее поверхности и остается только то, что следует подчеркнуть. И именно по этой причине образ маски Гигаку выражает жизненную энергию в несколько раз более сильную, нежели обычное человеческое лицо. И если бы можно было сравнить лицо человека на сцене с маской играемого им персонажа Гигаку, мы почувствовали бы, насколько лицо человека стерто, бесцветно, безжизненно в сравнении с выражением маски. Сила искусства возвышает, усиливает и очищает ее волшебство.
Если внешний вид масок Гигаку нацелен на позитивное отражение и кристаллизацию характерных черт личности человека, то о масках Но можно сказать, что у них эти черты радикально стерты. Маска Гигаку всегда являет собой личность, какой бы мифологический или выдуманный персонаж она ни представляла. Например, даже если вместо рта у маски птичий клюв, мы все равно ощущаем ее антропоморфность, человекоподобие. Однако, если мы имеем дело, скажем, с маской демона в театре Но, мы обнаруживаем, что все следы схожести с человеком начисто удалены с ее поверхности. Источником мистических ощущений, вызываемых видом маски Но, является именно такое «отрицание человеческого».
Как бы то ни было, в тот момент, когда маска Но возникает на сцене и обретает подвижное тело, происходит нечто поразительное. А именно: та самая маска, с лицевой поверхности которой должны бы были быть стерты все определенные эмоции, в действительности начинает демонстрировать бесконечное разнообразие выражений своего «лица». Когда актер, надевший маску, создает некий образ посредством движений рук и ног, то, что он выражает, становится уже самовыражением маски. К примеру, маска уже начинает «плакать», когда руки актера только еще движутся будто чтобы вытереть слезы. Представление сопровождается мелодией утаи43, и все это в совокупности служит самовыражению маски. Лицо маски способно выявить тончайшие нюансы сердечных движений с такой совершенной свободой и тонкостью, которых не существует на реальном человеческом лице. И подобная свобода выражения основана именно на том факте, что маска Но в статическом положении не раскрывает никаких конкретных человеческих чувств. Смеющаяся маска Гигаку плакать не может, тогда как маска старика или старухи в театре Но, ставшая частью их телесного образа, способна и смеяться, и плакать.
Но что особенно обращает на себя внимание в действиях маски, так это ее способность подчинять себе тело и жестикуляцию надевшего ее актера. Пусть в действительности мы наблюдаем за сценическими движениями самого актера, надевшего маску, но если иметь в виду эффект воздействия на зрителя, то здесь обнаруживается эффект маски, обретшей тело. К примеру, если некий актер театра Но, выходящий на сцену в маске женщины, не будет чувствовать себя по-настоящему реальной женщиной, его репутация будет немногого стоить. И в самом деле, будь актер неопытен или даже вообще будь он просто любителем, нам все равно следует оценивать его мастерство по его способности превратиться в женщину, после того как он наденет женскую маску. Такова великая сила маски. Следовательно, мы можем выразить это другими словами: маска управляет приобретенным телом. Причина тому – тело актера стало телом маски, и все его телодвижения воспринимаются как движения маски; то, что выражает тело актера, становится образом маски. Приведу один пример, демонстрирующий отношение тела актера и маски, сравнив ритуал мифологического периода Кагура44 и представление театра Но. Различие между жестикуляцией в театре Но и в ритуале Кагура, производимой формально одной и той же маской, очевидно. Даже если в обоих случаях (Но и Кагура) на актерах надета одна и та же, положим, женская маска, в случае театра Но мы никогда не увидим той волнующей мягкости движений женского тела, становящегося объектом откровенного соблазна, как в Кагура. Такая трансформация может удивить даже самого исполнителя. И, более того, одна и та же маска, обретшая себе тело исполнителя танца на мотив нагаута45, в театре Но способна стать совсем иной.
Приведенный пример может быть объяснен следующим образом: маска – это всего лишь лицевая поверхность (гаммэн), оставшаяся после удаления у изначально физического лица черепной коробки и его тела, но маска способна вновь обрести тело. Личности для самовыражения достаточно быть редуцированной до лицевой поверхности, но такое редуцированное лицо обладает могуществом свободно достраивать себя, телесно восстанавливаться. С этой точки зрения лицевая поверхность, лицо имеет ключевое значение для бытия человека. Это не просто одна из частей физического тела, но не что иное, как основание субъектности, которая подчиняет себе физическое тело и является основанием личной идентичности (дзинкаку46).
Все наши долгие рассуждения не могут не вызвать естественным образом ассоциаций с латинским словом persona. Это слово изначально означало маску, использовавшуюся в драме. Но значение его несколько сдвинулось; теперь оно стало означать различные драматические роли, то есть стало указывать на действующих лиц драмы. Теперь это dramatis personae, действующее лицо. Но такое словоупотребление применяется и для обычной жизни, протекающей вне рамок драматического представления. Разнообразные роли, которые исполняет человек в жизни, – это personas, лица. Я, ты, он – это первое, второе, третье лицо; а разнообразные общественные позиции, статусы и звания – это тоже некие лица. И такое словоупотребление уходит вверх до самого Бога, так что Отец, Сын и Св. Дух названы тремя Лицами Бога. Однако все личности играют в обществе свои роли и имеют свои обязанности. И то, как человек справляется с тем, что обязан выполнять по своей роли, – это и есть его persona, его подлинное лицо. Поэтому, если кто-то ведет себя «по чужим лекалам», его используют как другого, другую persona. Если это так, то понятие persona должно означать «личность» как субъект поведения и субъект права. Таким образом, маска превращается в личность.
Теперь о наиболее животрепещущем пункте – о причине такого поворота в значении понятия persona: она состоит в том, что изначально persona означала «роль». Если бы на маски смотрели просто как на мертвые подобия человеческих лиц, такое значение никогда не возникло бы. Это случилось потому, что маски, надетые на актеров, как бы обрели качества живых людей и тем самым получили возможность стать полноценными персонажами спектакля. Если это так, тогда мы должны признать присутствие здесь некой мистической тайны лица актера в маске, пусть даже и не играющего главную роль; тайны, благодаря которой persona обретает значение личности.
Слово «маска» (мэн/цура) отлично от persona, оно не обрело значения «личность» или «юридическое лицо». Однако это не значит, что у маски не было интенции обрести его. Если слово мэнмэн означает «люди», то индивид – это мэймэй (смысл таков, что одно и то же сочетание иероглифов при разном их прочтении означает и «люди», и «индивидуум» по аналогии с тем, как слово нингэн может означать и «люди», и «отдельный человек»). Наряду с этим в японском языке есть и такие варианты значений иероглифов мэн (маска/лицо) и као (лицо): мэммоку – утвердить свой престиж; као-о цубусу – опозориться и одновременно показать свое лицо. Что это, как не знаки того, что и здесь у нас слова мэн и као употребляются в значении «личность»?
Примечания
1 Цит. по: Аристотель. Соч. в 4-х тт. Т. 4. – М.: Мысль, 1984. С. 649. 
2 «Трагедия есть подражание действию важному и законченному, имеющему
[определенный объем], [производимое] речью, услащенной по-разному в различных ее частях, [производимое] в действии, а не в повествовании и совершающее
посредством сострадания и страха очищение (katharsis) подобных страстей» (Там
же. С. 651). 
3 «..те, кто в смешном преступает меру, считаются шутами и грубыми людьми,
ибо они добиваются смешного любой ценой» (Аристотель. Указ. изд. С. 651). 
4 История Но насчитывает 600 лет. 
5 Мимезис (греч.) – подражание, понятие, широко использующееся в современной эстетике. 
6 Орикути Синобу. Дзэнсю (Полное собрание сочинений). Т. 17. – Токио: Тюо
коронся, 1975. С. 10–11. 
7 Дэнгаку – обрядовые песни и пляски, исполнявшиеся при посадке риса и
сборе урожая. 
8 Хана-мацури – представления на празднике, посвященном дню рождения
Будды. 
9 Нэмбуцу одори – танец буддийских монахов, произносящих молитву-заклинание секты Син: «Наму Амида Буцу». 
10 Саругаку – вид народного фарса, содержащего акробатику, клоунаду, жонглирование, хождение на ходулях, танцы, фокусы и т. д. Считается, что саругаку предшествовал театру Но. Известен как минимум с Х в. Особенной популярностью
пользовались так называемые сэмминсаругаку (саругаку для черни), пародировавшие религиозную и светскую элиту. 
11 Орикути Синобу. Цит. соч. Т. 2. С. 411–412. 
12 Орикути Синобу. Цит. соч. Т. 17. С. 11–12. 
13 Эннэн маи – букв. «танец долголетия», мистериальное театрализованное
действо, содержащее пожелания мира и благополучного долголетия от имени
божества. Исполняется в новогодние и другие праздники. 
14 Кёгэн – комические сценки, исполняемые между пьесами Но, по характеру
противоположные этим пьесам. 
15 Девтерагонист в греческом театре – второй из трех актеров, по убывающей
степени важности: протагонист, девтерагонист, тритагонист. 
16 См. сноску 8. 
17 Орикути Синобу. Цит. соч. Т. 17. С. 348–349. 
18 Сато-кагура – представления театра Но на основе древних мистерий, связанных с религиозным культом синто. 
19 Baudelaire Ch. De l’essence du rire.Oeuvres completes. – Paris: L’Integral / Ed.
DeSeuil, v. 2, 1976. Р. 373. 
20 Например, в зависимости от обращения к высшим или подземным богам
формула «saceresto» означает, соответственно, «будь благословлен» и «будь проклят». 
21 Одзу Ясудзиро (1903–1963), японский режиссер, летописец традиционной
японской семьи в ХХ в. Автор фильмов «Бансюн» («Поздняя весна, 1949), «Бакусю» («Раннее лето», 1951), «Токио моногатари» («Токийская история», 1951), «Кохаягавакэ-но аки» («Осень семьи Кохаягава», 1961) и др. 
22 Маусс М. (1872–1950), французский социолог и антрополог, племянник и
ученик Э. Дюркгейма, представитель этнологического структурализма. 
23 Просопон (греч.) – лицо, выражение лица; латинские писатели использовали
это слово чаще тогда, когда речь идет о некоей роли – актера или, позже, общественной роли. 
24 Для Сартра «Другой» – это «феномен, расположенный вне всякого возможного для меня опыта» [Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. Опыт феноменальной онтологии. – М.: Республика, 2000. С. 252]. Поэтому он является для моего «Я» радикальным
отрицанием, объектом особого рода, дезорганизующим мир этого «Я». «Другой» – это тот, кто видит меня. «Быть увиденным другим», по Сартру, есть факт, никак не
связанный с моим собственным существованием; будучи рассматриваемым «другим», я становлюсь объектом оценки этого «другого», его критических суждений.
Таким образом, отрицательные оценки «другого» ограничивают мою свободу. Мое «Я» для «другого» – не более чем орудие, пространственно-временной объект; мое «Я» беззащитно перед оценивающим взглядом «другого». Моя реакция на взгляд «другого» – тревога и страх, поэтому, по Сартру, «Другой – это ад». 
25 Гипостазировать – приписывать отвлеченным понятиям самостоятельное
существование, рассматривать общие свойства, отношения и качества как самостоятельно существующие объекты. Так, в буддизме, господствовавшей религии в
средневековой Японии, личность понималась как сочетание дхарм или потоком
сознания буддийского космического тела. 
26 В современном японском языке омотэ, обозначающее «лицо» (мэн/омотэ), и
омотэ, обозначающее «внешнюю сторону, поверхность» (хё/омотэ), – это скорее
омонимы, для написания которых используются разные иероглифы или их сочетания; однако слово «внешняя поверхность» – хёмэн состоит из иероглифов, входящих в состав слов, обозначающих как «лицо», так и «внешнюю сторону». 
27 Здесь Сакабэ противоречит самому себе, говоря чуть ранее о комплементарности, взаимной дополнительности видимого и невидимого, омотэ и уратэ. 
28 Какё (Зерцало цветка) // Нихон котэн бунгаку дзэнсю (Полное собрание японской классической литературы). Т. 51. – Токио: Сёгаккан, 1973. С. 307–308. 
29 Картезианские субстанции – понятия из онтологии Р. Декарта. Она предполагает наличие в мире двух субстанций: телесно-протяженной (resextensa) и мысляще-духовной (rescogitans). Проблема их взаимодействия разрешалась введением
общего источника (Бога), который, выступая создателем, формирует обе субстанции
по одним и тем же законам. 
30 Св. Иоанн Креста, или Св. Хуан де ла Крус (1542–1591), христианский
мистик, писатель и поэт, реформатор ордена кармелитов. Подвергался гонениям со
стороны Римского папы, несколько лет провел в тюрьме г. Толедо. Автор поэмы «Темная ночь души», пояснения к которой содержатся в трактате «Восхождение на
гору Кармель» (1582–1588). «Ночь души» – это совершенно необходимый начальный этап восхождения души к Богу. Он имеет три стадии: 1) стадию изгнания
сатаны, привязывающего нас к земным вещам; тьма, в которой эти вещи не видны,
есть условие избавления от вожделений души; 2) стадию «тьмы веры», на этой
стадии происходит общение со Святыми патриархами; 3) стадию рассвета. Однако
Сакабэ заблуждается, думая, что Иоанн Креста отождествлял тьму со светом. Так, в
четвертой главе «Восхождения» Иоанн пишет: «Поскольку темнота, или привязанность души к тварным вещам, и свет, или Бог, являются противоположностями, и
никакого сближения или подобия нет между ними, ибо «что же общего у света и
тьмы?» – вопрошает св. Павел [2 Коринф. 6, 14]» (курсив мой. – Е. С., цит. по: www.krotov.info/acts/16/more/cruz.htm). Тот факт, что тьма у Иоанна есть необходимая
предпосылка для восхождения к Свету истины, отнюдь не является отождествлением света и тьмы. 
31 Подробнее об учении хонгаку см.: Трубникова Н. Н. Традиция «исконной
просветленности» в японской философской мысли. – М.: Росспэн, 2010. 
32 Онеирические состояния – состояния бреда. 
33 Здесь Сакабэ намекает на знаменитую даосскую притчу о бабочке. Однажды
даосу Чжуанцзы приснилось, что он бабочка, весело порхающий мотылек. Он
наслаждался от души и не осознавал, что он Чжуанцзы. Но вдруг проснулся и очень
удивился тому, что он Чжуанцзы, и не мог понять: снилось ли Чжуанцзы, что он
бабочка, или бабочке снится, что она Чжуанцзы? 
34 Гастон Башляр (1884–1962) – крупнейший французский философ и искусствовед ХХ в. Считал, что воображение, вопреки этимологии этого слова, не есть
способность строить образы реальности, оно есть способность создавать образы,
превосходящие реальность. По Башляру, поэтический образ обладает собственным
динамизмом и раскрывается в непосредственной онтологии. 
35 «Всё быстротечное – символ, сравнение» (Фауст, пер. Б. Пастернака). «То
есть всё единичное – лишь отблеск, символ, неточное подобие высшего начала,
составляющего основание природы. Человек стремится к тому, чтобы уловить трудно улавливаемое, ибо природа проявляет себя в частных вещах и существах, сохраняя непостижимость как целое» (Аникст А. Примечания // Гете И. В. Собрание
сочинений. Т. 2. – М.: Художественная литература. С. 508). 
36 Гаммэн (яп.) – слово, состоящее из двух иероглифов, означающих «лицо» (ган/као) и «маска, лицо» (мэн/цура, омотэ). 
37 Као (яп.) – «лицо». 
38 Хёгэн (яп.) – означает «выражение», «проявление»; содержит иероглиф «хё/
омотэ» – внешняя поверхность. 
39 Мэн/цура – иероглиф, означающий «лицо, маска». 
40 Гигаку – старинная театральная форма (VII–VIII вв.); по определению
Н. Г. Анариной, «Театр-процессия», существовавший в структуре дворцового церемониала или буддийской обрядовости и представлявший собой шествие до 40
актеров в масках с последующим музыкально-танцевальным представлением на
сценической площадке храма (См.: Анарина Н. Г. История японского театра. – М.:
Наталис, 2008. С. 57–68). 
41 В 1934 г. 
42 Хё:дзё – внешние черты, выражение лица. 
43 Утаи – вокальная часть представления Но; исполняется музыкантами оркестра (хаяси), сопровождающими хор (дзиутаи) из 8–10 певцов во главе с регентом.
Каждая часть драмы (ёкёку) содержит строгое указание на способ декламации. «Момент импровизации исключается – каждый звук ударников, все восклицания
музыкантов размечены в партитуре» (Анарина Н. Г. Японский театр Но. – М.:
Наука, 1984. С. 133). 
44 Кагура – синтоистский ритуал, насчитывающий ок. 17 веков истории; букв.
означает «игры богов». Главная цель Кагура – получить жизненные силы от спустившихся на землю божеств. Маска Кагура является магическим предметом (торимоно). 
45 Нагаута – букв. «длинная песня», традиционная музыкальная форма, сопровождающая спектакли Но и Кабуки. 
46 Дзинкаку – букв. «границы человека», слово для обозначения личности,
индивидуальности.  |