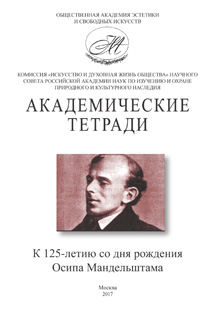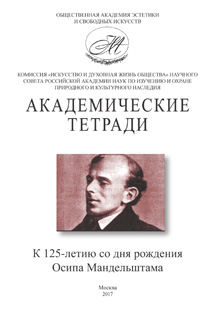 |
|
1. Афиша удивит: «Владимир Набоков, “Анна Каренина”». Разве не Лев Толстой?
Поэтому следует приписать: лекция. А чтобы быть более точным: lecture.
Сделать это надо только в программке. Ссылка необходима, ибо должна до спектакля раскрыть его тайну.
Владимир Набоков, как известно, читал лекции по русской литературе для американских студентов. Отсюда – lecture по-английски.
Но Толстой должен присутствовать, ведь он основной автор. Он автор первоисточника, то есть романа, который восхитил Набокова, да и весь читающий мир.
Набоков стал исследователем романа, не просто читателем. Он скрупулезно всматривается в каждое слово Толстого, в каждую страницу, в каждый образ: он пытается понять всю персонажную архитектонику романа, рассекретить все его переплетения и тонкости, дать свою собственную, набоковскую, концепцию ПРОЧТЕНИЯ гениальной вещи с единственной целью – распознать, почему она гениальна. Он поверяет алгеброй гармонию. Он хочет знать незнаемое.
В какие-то моменты его лекции даже кажется, что Набоков чуть ли не завидует Толстому, где мастерство приводит его в восторг. При этом надо помнить: Набоков мало кем восхищался из своих коллег по литературе, громил всех направо и налево, а тут… Тут преклонение, иного слова не подберу. Этакий «стокгольмский синдром» в мире словесности…
Литературоведческий анализ Набоков делает искусством. Причем своим, чисто набоковским искусством – с отчаянно смелыми гипотезами, домыслами, дорисовками и публицистикой, в которую он то и дело впадает, ненавидя ее, публицистику, всеми фибрами набоковской души. Волшебный набоковский стиль и язык сохраняются в его лекции, преодолевая скучную наукообразность, – страсти бушуют, сопереживание и одержимость лектора увлекают, не могут не увлечь.
Это на самом деле очень опасно и всегда случается, когда писатель пишет о писателе. А в нашем случае опасно стократ, ибо об одном гении пишет другой гений.
Но в том и состоит сногсшибательная неожиданность моей (извините, это не самохвальство, а констатация) чисто театральной идеи – совместить текст лекции с лучшими (главными) сценами из романа. Получится – не получится, понравится – не понравится – другой вопрос.
Спектакль продемонстрирует Толстого глазами Набокова, под ракурсом сверлящего взгляда Набокова. И это будет не очередная инсценировка (или экранизация), которым несть числа, удачных и менее удачных, а совершенно новая попытка освоить миры и смыслы великого романа. Нам важно открыть сотрудничество мастеров, переходящее в сотворчество.
Один классик, принадлежащий XX в., предлагает нам свое видение и толкование другого классика – из века XIX, но создавшего свой шедевр на все времена. Проект, созданый именно в год литературы 2015 году, был особенно уместным: этот наш, весьма неожиданный проект, в котором столь сегодня нужная в условиях, к сожалению, весьма заметной культурной деградации ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ функция будет сочетаться с размышлениями о фундаментальных человеческих проблемах – о семье, измене, безбожии, грехе и ответственности за грех…
Толстой-художник и Толстой-проповедник – кто нам важнее и ближе сегодня?.. А может, они все-таки неразделимы и Набоков был неправ?
2. Персонажная система (вкратце)
В романе, как и в спектакле, три пересекающиеся линии. Треугольник «Анна – Каренин – Вронский». Треугольник «Кити – Вронский – Левин» и треугольник «Стива – Долли – гувернантка». Анна изменяет Каренину с Вронским, Вронский изменяет Кити с Анной, Кити отвечает взаимностью на предложение Левина, Стива изменяет Долли с гувернанткой.
Все смешалось в доме Облонских, все смешалось в доме Карениных, все поломалось в судьбе Кити… Эти три узла взаимо зеркалят и взаимодействуют. Это главные герои, и их переплетения должны обеспечить драму конфликтными диалогами и существом нравственной проблематики. Разобравшись «кто есть кто» в персонажной системе, мы приблизимся к толстовству, ради которого, собственно, и был написан роман. Нам важно с этим согласиться по той простой причине, что иначе мы не усмотрим, какие двигатели и моторы работают на основную мысль: человек не может жить во лжи и обмане, финалом такой жизни обязательно будет трагедия.
Еще один главный герой нашего спектакля – некий собирательный образ, состоящий из множества индивидуумов. Назовем его по слову графини Нордстон: «Наш развратный Вавилон». Это хор светских львов и львиц, взятых со страниц толстовского романа, исповедующего грешников и грешниц во всех их злачных значениях и проявлениях.
До начала связи с Вронским Анна была плоть от плоти этой светской жизни, она была встроенной в нее женой Каренина – значительного лица, стоящего где-то наверху иерархии, а потому совершенно недосягаемого.
Разговоры актеров, что Каренина «надо делать молодым», как раз несостоятельны уже по той простой причине, что возраст дает солидность и значимость фигуре – без них драма Каренина будет обеднена. Каренин – заложник своей важности, он жертва происходящей ситуации, но от эпизода к эпизоду теряет свою беспомощность и растерянность, наоборот, к концу обретая силу и мощь хищника. «Великодушие» мужа Анна не в силах вынести, ибо он возглавляет корпорацию власти и пошлости. Жить ВНУТРИ этой корпорации Анна не может, а вырваться за ее пределы можно лишь благодаря высокой, всепобеждающей любви.
«Женщину считают глубокой – почему? Потому что у нее никогда не достанешь дна, – говорил Ницше и добавлял: – Женщина никогда не мелка».
Почувствовав охлаждение и отчуждение Вронского (у него дела – сравни с «делами» Эраста в «Бедной Лизе»), Анна качнулась в сторону самоубийства, равнозначимого самоспасению.
Высший свет общества, он же «наш развратный Вавилон», в сценическом выражении должен стать в спектакле той ведущей альтернативной силой, перед которой мечется загнанная Анна, отступает брошенная на железнодорожной станции («Вронского нет!») и падает под колеса пыхтящего паром поезда. В сущности, это история противостояния человека и железа, человека и колес, человека и системы лжи.
Груда железа, коверкающая живое тело, – это и сон, и реальность. Тоже лейтмотивный толстовский образ, раздавливающий человека. Мужик – Анна – есть совмещение катастрофы – беды с катастрофой – трагедией. Поток сознания у Толстого предвещает авангард Кафки, Джойса, Беккета и Пруста, вместе взятых. Это прорыв в литературу будущего. Одинокий герой в экзистенциальном окружении.
Анна одна. Против нее все. У Гамлета было то же самое. Вот только мотив мщения разный. В «Анне Карениной» – «Мне отмщение. Аз воздам» – то есть себе. В «Гамлете» «я» «воздам» всему преступному Эльсинору.
Обратим внимание на эпиграф Бомарше, выведенный им из реплики его же пьесы «Евгения»: «Один рискованный шаг – и я во власти всего света». То же самое может сказать о себе и Анна. И при этом она делает этот самый «рискованный шаг».
Вавилон – не Эльсинор. Хотя парадигма Толстой – Шекспир имеет вид условной рокировки. В «Короле Лире» она ощутима в самом соответствии судьбы бежавшего из Ясной Поляны седого бородача и героя шекспировской трагедии, ушедшего в пустыню духа, – кто только не отмечал это поразительное сходство сюжета реального и сюжета художественного!..
Эти сопоставления чудесны, но они ничего не дают для постановочной работы.
Суть в другом – в диалоге псевдонравственности с живым проявлением сердечного чувства. Влюбленность Вронского в замужнюю женщину и ее адекватный чувственный ответ взрывают так называемое общественное мнение, и счастье взаимного обладания оборачивается самым отвратительным несчастьем, смертоносным по существу. Жизнь не способна примирить и успокоить пылание страстей – в надвигающейся трагедии все будут по-разному виноваты, но у всех будет и своя правота. У каждой личности есть свое оправдание, но самопознание ведет только одна Анна, отчего и происходит после грехопадения падение меж колес. Нарочитости в этом никакой, зато правда торжествует.
Все симпатии Набокова на стороне Анны, хотя Толстой как автор толстовства отдает свои философские и человеческие предпочтения Левину, так и не получившему от женитьбы на Кити семейное счастье. Каренина жалко, ибо как муж он был поначалу обманут, но затем принялся обманывать сам, обещая развод, но так и не давая развода. Крах его карьеры – результат молвы (опять шекспировское слово!), и Анна, несомненно, нехорошая причина этого краха. Хотя и невольная.
События в романе наворачиваются как снежный ком, и мне следует следить за тем, чтобы то же напряжение росло и в пьесе. За счет чего этого достичь?
Прежде всего за счет психологического нагрева переживаний Каренина – ведь если бы не он, драмы не было бы!.. Каренин – главный носитель препятствий на путях любви Вронского и Анны, и потому чрезвычайно важно отцентрировать этого героя, возложив на него огромный по масштабу груз переживаний. Это глыбистый человек, в которого упирается и сюжет романа, и его философия.
Толстой умудряется выписать зло без всякой карикатуры, как говорится, на деталях: то Анна видит, что у него «уши оттопырены», то он агукает и мило бормочет свои «гули-гули» ребеночку Анны, то он роняет перчатку перед носом Вронского и успевает сам ее поднять, то от жуткого волнения заплетающимся языком произносит свое знаменитое «пелестрадал» вместо «перестрадал»…
Каренин – гигант в своем поведении, и его должен играть самый харизматичный актер труппы.
Стива Облонский… Мне почему-то кажется, что он должен быть внешне похож на Дягилева.
Холеное лицо сибарита, скрытого развратника. Но всегда весел и в своем жизнелюбии и постоянно пышущей энергичности не знает равных. Его способ порхать и получать удовольствие от каждого мига быстротекущей жизни, в которой порой встречаются разного рода неприятности – ну вроде того, что жена узнала о моей измене с гувернанткой, но… ничего страшного, упаду на колени, скажу «прости!» – и она простит! А куда она денется? Ведь шестеро детей!
И снова будет безоблачное счастье, и любимые рестораны «Эрмитаж» и «Англия», где самые лучшие устрицы – «шлюпающие и шершавые»!
Зерно характера неунывающего Стивы – простодушие, благодаря которому любой житейский катаклизм – мелочь, ничего не значащая и потому не заслуживающая остановки в движении жизни.
Характер Стивы – во всем поверхностного и по этой причине абсолютно непобедимого человека – с него как с гуся вода! – находится в полном противоречии с Анной, для которой ежеминутная ответственность – норма, а все, что с ней происходит, не есть купание в ванне с шампанским или дальнее плавание по течению, а сплошная мука и боль в поиске счастья.
Стива легок и обаятелен, ибо являет собой пример живого незадерживания на проблемах, – очень узнаваемый тип и сегодня.
«Образуется» – вот его девиз и корень, если можно так сказать о человеке без корней.
Он и Долли – таких пар тысячи тысяч. Да что там – миллионы!
Их благополучие мнимое. Что бы ни случилось в жизни, они найдут выход из любой встряски. Они прикроют любой возникший конфликт и сделают так, что все, кто знает, быстренько обо всем забудут, – и снова жизнь помчится на скоростях – таких, что дух захватывает. Впрочем, при чем тут «дух»?
В этом плане и Долли вполне стоит своего мужа. Скандал в семействе Облонских при всем его шуме и первоначальном крике?– не более чем вынужденная показуха, надо было выпустить пар, поскольку крышечка заплясала.
Иное дело – скандал вокруг Анны и Каренина. Да, Долли включится, как включаются обычно житейски оснащенные любовным (или семейным) опытом дамы, когда суют свой нос в чужую постель, судачат, а потом дают советы, советы, советы…
Долли искренна, она хочет помочь Анне с разводом, но чего она добилась? Ничего она не добилась. Анна все равно гибнет, одинокая, раздавленная «советами», которым не суждено было сбыться.
Анна спасла Долли, сказав ей, что она простила бы мужа с его связью с гувернанткой. Она не выступает здесь как разрушительница. Хотя это ложь, но, как говорят, это «ложь во спасение».
А вот Долли нашептывает Анне другое. Она убеждает, что Вронский скоро покинет ее, увлекшись новой юной красавицей, новыми «туалетами» … говорить ТАКОЕ изнывающей от любви Анне – значит рушить эту любовь, внушать Анне грязь, всесилие грязи перед чистотой…
Вот почему мещанское или, скажем так, чисто женское участие Долли в судьбе Анны, кроме горя, ничего не принесло женщине, задумавшей освободить от себя всех действующих лиц романа.
Семья Долли и Стивы держится на шито-крыто, то есть на вранье по взаимной договоренности. Для Анны неприемлем этот принцип с момента появления в ее жизни Вронского. Любовь не терпит обмана.
Далее – Левин и Кити.
Их история любви убедительно показывает, что даже сильные страсти, с которых все начинается, стирают чувства и со временем так же преображаются в скуку и фальшь, если изначально во взаимности не было единства душ.
Левин обезумел от Кити, стал рабом своего желания, не верит в свои мужские достоинства, комплексует, изводит себя в мечтах о девушке, которая кажется ему богиней…
Но у Кити флирт с Вронским. Неудивительно, что Левин не симпатизирует графу, а когда тот на балу вдруг оказывается ошеломлен Анной и переадресовывает свой интерес в ее сторону, тотчас пользуется, так сказать, образовавшейся нишей и, подталкиваемый Стивой, проявляет невиданную смелость и просит у Кити руки.
Обиженная Кити, недолго думая, принимает предложение. И все было бы хорошо, если бы Левин (alter ego самого Толстого) не был увлечен толстовством как способом мыслить и жить в соответствии с этими мыслями. И все было бы еще лучше, если бы милая прелестница Кити не была чуток придурковата. Может быть, я слишком строг к ней и милоты бывает вполне достаточно для сохранения дома и опять-таки пресловутого благополучия гранитного остова семьи, но только почему Кити, едва поселившись в деревне, где с упоением работает Левин над трактатами о пользе земледелия и вреде железных дорог для России, начинает дико скучать и тайно радоваться новым флиртам.
Толстой беспощаден к этой паре – он видит в Кити потенциальную изменницу, значит, былое безумие любви Левина – зря, этот ищущий истину человек обречен, разрыв с Кити неминуем, но для этого, вероятно, надо было писать новый роман – продолжение «Анны Карениной».
Опять обман, кругом обман. И хотя Анна ничего не знает о теперешних отношениях Кити и Левина, надлом уже произошел, и Левину, видимо, предстоит бежать из своего деревенского имения – куда? А куда глаза глядят – наподобие бегства Льва Николаевича от любезной Софьи Андреевны. Опрощение на выход, но мы увидим Левина с косой, занятого не только интеллектуальным, но и физическим трудом. В свете говорили, что Левин убил на охоте медведя, но с невинным зверьком по имени Кити ему справиться вряд ли удастся.
И все-таки роман кончается на Левине, на блестяще выписанном обращении к звездам, к Млечному пути с его «ответвлениями» и надеждой на победу добра. Тем самым Толстой подвигает нас к христианству, в котором покаяние превыше, чем сам грех, а жизнь сложнее, чем наши представления о жизни. Левин живет в мире идей и религиозных прозрений. Кити изначально чужда всему этому.
Роль Левина, пожалуй, самая трудная в спектакле. Почему? Да потому что толстовство сегодня полностью профанировано, идеи Толстого о единственно праведном человеке труда стерты, снивелированы, обесцвечены – на сцену вышли бессовестные дельцы, агрессивные потребители роскоши, не слышащие зовы с небес. «Царство божие внутри вас. Окститесь!» – заклинал Толстой. Где там! Внутри нас пустота. Чтобы ее преодолеть, чтобы от нее избавиться, и надо читать и заново ставить Толстого. Например, «Анну Каренину».
Анна и Вронский
Дуэт в персонажной системе романа наипервейший. Роль Анны – мегароль мирового репертуара. Роль Вронского не скажу «служебная», но ее приклеенность к рассказываемой истории очевидна и носит сюжетообразующий характер. Роман называется не «Алексей Вронский», а «Анна Каренина» – стало быть, центральный посыл к читателю не мужской, а женский.
Есть главная героиня и остальные. Вронский в том числе.
«Анна Каренина» – психологический роман. Наша «Анна Каренина» – психологический театр. То, что он может быть и зрелищем, говорит о том, что «реализм без границ» присущ Толстому, а Набокову – еще в большей степени.
Анна подобна Еве, ощутившая себя женщиной, но попавшая под власть сатаны, она та самая Прекрасная дама, которая явлена была чуть позже – в высоко поэтичном разврате Серебряного века, она погрязла в запретных желаниях, но, сполна отдавшись красоте безграничной эротики, не испытывает никакого стыда. Почему? Ответ прост: потому что ЛЮБИТ.
«Брось меня! Брось меня! Брось! Брось! Брось!» – восемнадцать раз, истерично, потому что загнанная… Вронский должен ошалеть от ее выплеска. Эфрос когда-то учил своих актеров: «Молчание, но не спокойствие». Взрыв последует после молчания – Анна одна на сцене, накопление, и лишь потом куролесит. Это провокация, конечно, со стороны Анны, но от безвыходности. Она срывается, ибо чувствует тупик. Желчь должна быть, горечь… и вызов… Это как в стихе Ахматовой:
Полно мне леденеть от страха…
И дальше:
Он не станет мне милым мужем,
Но мы с ним такое заслужим,
Что смутится Двадцатый Век…
Впрочем, в нашем контексте номер века не важен.
Для Анны смерть – это как эзотерический уход в пустыню, в замкнутость после осознания греховности, за которым следует Апокалипсис. Самонаказание есть освобождение. Гармонизация души. Потому Анна бросается под поезд со счастливым лицом. Подтверждением этому уход самого Льва Толстого из Ясной Поляны. Как назвал премудрый Иван Алексеевич Бунин свой очерк об этом уходе? «Освобождение Толстого». Так и конец жизни главной героини романа – «Освобождение Анны». Будто про нее у Пастернака:
Прощайте, годы безвременщины
Простимся, бездне унижений
Бросающая вызов женщина!
Я – поле твоего сраженья.
Грех бессилен перед любовью, израненной сплетнями и пошлостью. И эта всесильная любовь не имеет ничего общего с табуированными ограничениями, которые на словах провозглашаются высшим светом во всеобщем развратном Вавилоне, где все пересеклись в сексуальных играх и партнерствах.
Несмотря на принадлежность к свету, Анна без особых усилий отдирается от него и летит в пропасть на крыльях наслаждения, которое дает только неистовая любовь. Анна самобытна и самодостаточна, она сохраняет достоинство до самого конца, потому мы и сопереживаем, сочувствуем грешнице, ее терзаниям из-за сына Сережи, из-за неполучения столь долго и мучительно ожидаемого развода, из-за, наконец, возникшего в решающий момент охлаждения Вронского.
– Ты бы простила? – спрашивает ее Долли.
– Я бы простила! – твердо отвечает Анна в полный противовес своему характеру. Посоветовать ТАК можно, а самой следовать этому совету Анна не сможет ни в жисть!
Общество как бы распинает Анну за ее стойкость и полнейший отказ от каких-либо компромиссов.
А ведь многие (в том числе читатели) считают Анну такой-сякой, чуть ли не блядью, забывая основополагающий, все тот же главный мотив: Анна влюбляется, Анна любит, а когда до нее доходит, что любви нет, кончилась любовь, тут тотчас и кончается жизнь.
Проблема существования в мире лжи и обмана для Анны не стоит. Ее память безошибочна в выборе подтверждений собственных чувств, и, пока этот внутренний процесс идет, Анна ведет борьбу с окружением, с болотом света, с развратом Вавилона. Сохранить любовь для Анны важнее, чем сохранить честь. Но без любви и без чести она отказывается жить.
Ужас ее положения усугублен отсутствием Вронского. Два слова всего: Вронского нет – значит, любви нет и жизни нет и не будет. Отсюда единственный выход – самоубийство.
Набоков назвал Вронского «вертопрахом». Думается, это передержка, свойственная писательскому дару Владимира Владимировича, умевшего свою изощренную субъективность сделать аргументацией всеобщей правды. Толстой не дает повода для этакого осуждения графа, он лишь ставит ему в вину естественные для всякого мужика переживания в связи с тем, что все внебрачные дети без развода матери с законным мужем будут носить не его, Вронского, фамилию, а фамилию Каренина.
Сам институт брака подвергается Толстым сомнению, а собственно развод, вытекающий из неудачно получившейся семьи, является верхом издевательства и пошлости – адвокат говорит Каренину о трех условиях юридического обоснования развода, и эти «условия» омерзительны и неприемлемы с точки зрения человека. Таким образом, закон оказывается на стороне вселенской лжи, он, более того, провоцирует ложь – чего стоит одно только требование поймать любовников на «прелюбодеянии», да еще при свидетелях!
Какой же выход для Вронского и Анны?
«А не надо было друг в друга влюбляться!» – как сказал мне один актер.
«Так ведь сердцу не прикажешь», – попробовал я возразить.
«Прикажешь, прикажешь!.. А если не сумеешь приказать, получится то, что получилось в романе!»
А ведь актер прав, подумал я. Действительно, останься Вронский с Кити, Анна осталась бы с Карениным! О чем тогда Толстому писать и чем тогда Набокову восхищаться?!
Анне около 30. Из них восемь лет она с Карениным в замужестве. У них ангелочек Сережа – баловень дальнейшей зажиточной жизни. Видимость семейного счастья в радужных перспективах. Ничто никому не грозит. Балы, выставки, роскошь обыденного существования. Сытость, довольство, красота, обеспеченность… Иногда мешает суета и скука, но это легко преодолимо. Муж – сухой, рафинированный, кажущийся стариком (в сравнении с Анной). Может быть, он импотент? Для Анны это было бы совсем неплохо, поскольку офицер Вронский, скачущий на лошади, даст этому мужу сто очков. Все хорошо – и вдруг взрыв, и все наперекосяк. Любовь переворачивает все.
Он рисковый парень, этот Вронский, раз бросился в поезд вдогонку за Анной – и это, понятное дело, произвело на нее впечатление. Почему-то на женщин именно такие рисковые поступки со стороны решительных и смелых мужчин производят сокрушительное воздействие, хотя дамы при этом (Анна в том числе) всеми силами обычно пытаются скрыть свою впечатлительность.
К тому же бравый Вронский моложе Анны. И уж, конечно, много моложе Каренина. Эти возрастные уточнения чрезвычайно важны, ибо принципиально различают героев, содействуя психологическим мотивировкам. Более того, влюбленная Анна где-то обнаруживает некое едва заметное материнство в отношении юного, пылкого юноши Вронского – этот мотив я хотел бы подчеркнуть. Ключевой вопрос – с какого именно момента начинается у Вронского изменение отношения к Анне? Где этот рубеж, толкающий трагедию?
Особая тема – Вронский и Фру-Фру. А также Вронский и его мама.
Где-то в середине романа граф теряет свою любимую лошадь, и это событие, словно пророческое ясновидение, вселяет в сюжетное развитие романа мистическую ноту – предвестницу гибели главной героини. Глаз умирающей Фру-Фру смотрит на всю эту историю счастливой любви с несчастливым концом, как бы принося себя в жертву сумасшедшей скачке людей, в бесцельности своей означающей апокалипсис между жизнью и смертью.
Как сделать сцену скачек в театре заразительной и убедительной?
Смерть Фру-Фру и загнанный в «Истории лошади» Холстомер – метафорические образы сатанинства, по Толстому, проникающего в быт пустых людей, которые как бы предупреждают о трагедии, взывают к осознанию потери нравственности и добра. Смертоносный характер случившегося на скачках давит на влюбленного Вронского, наш герой теряет душевное равновесие, его берет оторопь, одним словом. Образ Фру-Фру не отпускает его и дальше точно так же, как образ раздавленного на железнодорожных путях мужичка, затем снящегося обоим – и Анне, и графу.
В эту мистику входит также и образ железа, мнущего человека, – и этот раздавленный человек не есть ли сама Анна Каренина в одноименном романе?
Лязг вагонов, стук колес и копыт, всевозможные выкрики и шумы – звуковая ткань нашего спектакля. Но это еще и сопровождающая роль Вронского музыкальная тема. Гармония постепенно превращается в какофонию.
Завершение роли Вронского придумано Толстым блистательно – после гибели Анны юный граф отправляется в Сербию, на войну, где, видимо, будет искать смерти – вдогонку смерти своей любимой, – это так понятно и это так по-русски!.. Под водительством Вронского, насколько я помню роман, полк (или отряд?) драгун будет участвовать в боевых действиях – что может быть актуальнее или даже злободневнее того, что потерявший свое живое сокровище человек летит на коне в самое пекло ненавидимой Толстым бойни, в самую что ни на есть, как теперь бы сказали, горячую точку. Узнаваемо, не так ли? И какой там «вертопрах»?!.
Что касается мамы Вронского, то она, мне кажется, могла бы быть прописана автором более подробно и в поединках сына и Анны с обществом должна бы не только присутствовать где-то в стороне, а проявляться гораздо более активно, более ярко, что ли, но Толстой так высоко стоит, что не мне толковать о каких-то резервах его романа, который велик и без того. Будем помнить еврейский анекдот о том, как во время Шестидневной войны в зоне боев висел такой плакат: «Просьба к солдатам советы генералам из окопов не давать!» Вот и я лучше буду сидеть тихо в своем театральном окопе и помалкивать.
Анна Каренина и Алексей Вронский своей беспримерной любовью не похожи ни на Ромео и Джульетту, ни на Тристана и Изольду, ни на Лейлу и Меджнуна, ни на сотни других пар, получивших заслуженную славу в пьесах, эпосах, мифах, легендах, повестях и романах… Они стоят особняком, потому что живы не в литературе, а в каком-то еще и ином пространстве, где-то между жизнью и смертью, а может, даже не «между», а «над». У этой пары нет аналогов, они штучны и неповторимы… Поэтому сыграть их будет актерским подвигом.
Здесь нужна особая нервная система – или скорее болезненная психика, позволяющая жить в образах без перевоплощения, требуемого в других ролях, а как-то иначе: от стресса к стрессу, от того, что можно назвать «выворотом души», к растерянному незнанию того, что «со мной» происходит. Эти роли чувственны настолько, что поиск логики поведения персонажей, как ни странно, должен уступить абсолютному непониманию слов и ситуаций. Вронский понимает только Анну, а Анна понимает только Вронского, с остальными они общаются как слепой с глухими. Сосредоточенные на своей драме столь глубоко и мучительно, что спасения нет, ибо нагрузка переживания преступает все нормы. Оба выглядят к финалу совершенно разбитыми, опустошенными, исковерканными.
Анне в этом помогает морфин, неоднократно принимаемый ею в процессе нарастания трагедии и приближения к финалу. Но Анна не испорчена. Анна антивульгарна.
Вронский обходится без разрушающего лекарства, но существует в прямом смысле в параллель теряющей рассудок Анне. Тема разрушения есть продолжение темы любви и измены – кто разберется тут, кто прав, кто виноват?!. Все правы, и все виноваты. Но почему-то сочувствуем мы только Анне!
А может быть, Вронский всего лишь ярый бабник – обольститель, свихнувший женщину с честного пути? Сам юный граф Лев Толстой в период своего славного приключения в образе ненасытного комильфо наворотил много бед вокруг себя – позитив в том, что, если бы не было этой веселой бытности-молодости, «Анна Каренина» вряд и вышла бы из-под его натруженного пера (ведь «Война и мир» уже были позади и писать роман об измене и ее последствиях, наверное, было хоть и увлекательно, но как-то не совсем логично, то есть работать по заниженной планке). Но нет, Толстой остался Толстым – великаном, и не об измене он писал свой новый роман, а о Любви – той самой, которая всесильна и поглощает человека полностью, бьет наотмашь своей эротической мощью… Вот почему Вронский не может быть «вертопрахом» и совратителем, он может быть только в должности любовника, чьи чувства высоки и достойны Анны. Мы не найдем во Вронском того донжуанства, которое приписывает ему Долли, выдумывая по-бабски легенду об обязательной мужской неверности, – в романе Вронский не дает никаких поводов для подобных упреков.
Так что любовь этой пары – светлая и трагическая – основа основ романа о порче и чистоте, об их неувядаемом конфликте, и даже сводящий с ума морфин только прибавляет страстям и вожделению ту самую чувственность, которая на самом деле является настоящим душеспасительным целомудрием.
При всем давлении на нее Анна – свободный человек, а без свободы могут жить только безнравственные люди. Смерть Анны императивна, ибо, начав писать роман, Толстой знал: светский «развратный Вавилон» победит свободную личность, любовь проиграет злобе сплетен и ненависти, – и эта неизбежность есть самый стержневой смысл трагедии.
 Первым на сцену выйдет Лектор. Это кто? Набоков? Боже упаси! Играть, то бишь ИЗОБРАЖАТЬ Набокова – крайне мерзкая задача. Пошлость будет очевидна. Вкус, которым отличался Владимир Владимирович, был безупречен, – всякая лихая театрализация здесь абсолютно неприемлема. Искусственность вылезет наружу, сделается до смешного пародийной. Я всегда ежусь, вздрагиваю и корежусь, когда вижу актера, пусть даже талантливого, который пыжится представить нам известное лицо по портретному сходству (прическа, грим, ракурс – профиль, фас – и даже новые технологии, позволяющие в кино делать маски с человеческой мимикой), – хочется опустить глаза долу, это не мое, мне всегда в этих случаях становится как-то больно и даже несколько стыдно, что я на все это смотрю… Кто-то скажет: но ведь Пушкина играли? Играли. И ничего. Петра Первого, Ивана Грозного, Ленина, Александра Македонского… Искусство ли все это? Может, и искусство. Но не мое. Нет-нет, не мое. Видно, знаковое со временем начинает превалировать над реальным и люди не хотят смириться с ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ тех, кто был живым и только, мыслил, действовал, страдал… И возникает не всегда понятное ЖЕЛАНИЕ ВОСКРЕСИТЬ, ну что-то вроде сегодняшнего ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ… Первым на сцену выйдет Лектор. Это кто? Набоков? Боже упаси! Играть, то бишь ИЗОБРАЖАТЬ Набокова – крайне мерзкая задача. Пошлость будет очевидна. Вкус, которым отличался Владимир Владимирович, был безупречен, – всякая лихая театрализация здесь абсолютно неприемлема. Искусственность вылезет наружу, сделается до смешного пародийной. Я всегда ежусь, вздрагиваю и корежусь, когда вижу актера, пусть даже талантливого, который пыжится представить нам известное лицо по портретному сходству (прическа, грим, ракурс – профиль, фас – и даже новые технологии, позволяющие в кино делать маски с человеческой мимикой), – хочется опустить глаза долу, это не мое, мне всегда в этих случаях становится как-то больно и даже несколько стыдно, что я на все это смотрю… Кто-то скажет: но ведь Пушкина играли? Играли. И ничего. Петра Первого, Ивана Грозного, Ленина, Александра Македонского… Искусство ли все это? Может, и искусство. Но не мое. Нет-нет, не мое. Видно, знаковое со временем начинает превалировать над реальным и люди не хотят смириться с ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ тех, кто был живым и только, мыслил, действовал, страдал… И возникает не всегда понятное ЖЕЛАНИЕ ВОСКРЕСИТЬ, ну что-то вроде сегодняшнего ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ…
Нет, не мое. Решительно не мое!
Однако наш Лектор – лицо необходимое и в контексте спектакля с нашим решением абсолютно законно привлеченное в сценическое пространство.
С самого начала мы отказались от очередной инсценировки. С самого начала мы объявили, что это будет лекция. Но не просто лекция, а лекция в театре. Следовательно, все присущие зрелищу формы здесь будут задействованы вместе с выбранной нами определенной эстетикой.
Лектор есть театральный персонаж. Актер играет Лектора, но не конкретного Набокова, а от имени Набокова, без опознавательного сходства с Набоковым.
Очень важно, чтобы зритель это сразу понял и не морщился, не ерзал в кресле при виде Лектора: это что? Это великий русско-английско-немецко-американский писатель? Тот самый?
Совсем не «тот самый».
Существует множество фотографий и изображений Набокова. Вот он в боксерских перчатках… Вот с сачком для ловли бабочек… А вот изумительное изображение – Набоков-дервиш в накинутом на плечи дрянном одеяле; чем не московский бомж?!
Я думаю, эти документы могут быть использованы в нашем спектакле в проекции, но именно как документы – чтобы дать зрителю возможность иметь связь с исчезнувшим с лица земли человеком, чтобы построить наш театральный мир во взаимоотношении с набоковским дискурсом.
Дело не столько в том, что наш Лектор будет произносить текст Набокова – несомненно, хорошо выученный, сколько в том, КАК он будет его произносить, то есть каково при этом будет его ДЕЙСТВИЕ на сцене.
Роль Лектора, таким образом, обязана стать и ролью комментатора, и ведущего (что-то наподобие шоумена!), и рассказчика, знающего все перипетии сюжета, его повороты и детали, и, главное, ролью ТОЛКОВАТЕЛЯ Толстого, мыслителя, с которым можно соглашаться и не соглашаться по ходу игры.
3. Вот наконец прозвучало это самое волшебное на театре слово – «игра»
Наш спектакль – это игра в «Анну Каренину», игра в Лектора, но не в Набокова, а в тексты Набокова по поводу текстов Толстого. Один резонирует от другого, навязывая нам свое понимание в динамике развертывания общей сценической игры.
Лектор – самый активный участник игры, отнюдь не пассивный наблюдатель и созерцатель. Его поведение – азартное сотворчество с театральным изъявлением, в которое он в любой момент может вмешаться и вмешивается. Он как бы знает все о романе, о толстовстве, о художественном методе коллеги-классика и, оперируя своими собственными, ни на кого не похожими представлениями и оценками, влияет на наше читательско-зрительское осознание романа. Он как бы хозяин зрелища, его делатель на наших глазах… В какие-то моменты он даже может и должен выглядеть режиссером-постановщиком. По мановению его руки могут переставляться декорации, мебель, выстраиваться мизансцены.
Все участники послушны Лектору. Он поправляет их позы, подносит по-лакейски бокалы и костюмы, иногда исчезает из действия, а иногда (когда нужно) выходит на первый план.
Он имеет право потребовать повторить то или иное слово, чтобы проакцентировать смысл. Он в постоянном волнении от того, что происходит на сцене, и при случае излишне эмоционирует, когда действие и конфликты оказываются на пике напряжения.
Но он бывает и скуп и строг в оценках, не позволяет себе лишнего. В общем, он ведет себя как человек заинтересованный крайне, но так же крайне воспитанный, то есть интеллигентный. Умеет прятать свое раздражение, а свое несогласие с чем-либо, чаще всего с Толстым, облекать в формы блестящей литературоведческой полемики, за которой мы, зрители, надеюсь, с удовольствием будем следить.
Нужно сделать включенность в действие органичным и свободным – только так окажется обеспечена художественная состоятельность нашего драматургического хода. Лектор одновременно и интерпретатор, и творец. Он созидает огромный интеллектуальный массив вокруг текста Толстого, наша цель – придать этим пластам некое единство, которое в конечном итоге и будет спектаклем, где временно ожившие герои романа выберутся из многостраничного канона на волю, на свободу сценического пространства.
Лектор – действующее лицо. Оно ответственно и скрупулезно анализирует и диагностирует роман, забираясь в его глубины, расшевеливая и обнажая его содержание. Толстой, естественно, не ведал мнений Набокова – и это даже хорошо, иначе бы коллеги-классики наверняка из-за чего-нибудь передрались, ведь искусство и правду они понимали по-разному, но мы-то как раз и призваны их срастить, их скрестить, их перепутать… В нашем замысле – заставить мыслить зрителя, точнее, мыслить и осмыслять…
Вряд ли это удастся сделать во время спектакля (слишком мимолетно театральное дело), «где напрасно пыталось искусство к правде жизни припутать обман» (Н. А. Заболоцкий). Но, будем надеяться, придя домой и вспомнив увиденное, зритель почувствует себя ВНУТРИ романа, будто в огромном мироздании, которое и есть непознанный, не изученный до конца и совершенно непредсказуемый космос человеческой души.
4. Сценография
Художник Александр Лисянский предложил заселить сцену огромными трехметровыми фигурами – три мужских силуэта и три женских.
Фигуры двигаются по сцене в свободном режиме в любых направлениях, делая самые разные перестроения.
Вот они в ряд – все на авансцене. Вот в таком же ряду перед задником. А вот они в две шеренги; потрое; друг за другом.
Вот по диагонали, или буквой «М», или «Т». Вот вдоль стен, как кулисы. Или – в свободном, хаотичном рисунке.
Силуэты работают, как ширмы. Из-за них можно выглядывать, за ними можно скрываться.
На силуэтах (в нижней части) – фотопечать.
Важнейшее качество – силуэты полупрозрачны, на них идут проекции. Темы проекций разработаны А. Лисянским, выполнены В. Медвецким.
У фигур-силуэтов имеются трюковые эффекты.
1. Раскрывается огромный веер.
2. Шевелится зонтик.
3. Одна из фигур склоняется.
4. При определенном контражурном свете становится видным белье (образ «Нашего развратного Вавилона»).
5. Одна из фигур – с открывающейся дверью, из которой может выйти персонаж или выехать стул.
6. Одна из фигур двигает рукой, может приподнять шляпу или цилиндр.
Проекции идут на фигуры и, что особенно важно, на специально постланный танцпол. Это, возможно, дает некий эффект, поскольку по проекциям будут ходить актеры в образах. На заднике образуются гигантские тени (боковой нижний свет). Это все, вместе взятое, будет способствовать мистической атмосфере спектакля.
Свет – преимущественно холодный.
По авансцене и на заднике – множество мигающих свечей (светильников и бра старинного свойства).
Должно быть красиво. Однако строго. Весь спектакль я намерен поставить на десятке стульев, из них два кресла с ручками. Перестановки осуществляются рабочими-монтировщиками, свободными актерами и Лектором.
Стулья расставляются в разных эпизодах по-разному. Иногда опрокидываются ножками вверх. Все конфигурации положения стульев на сцене строго фиксируются и сохраняются под контролем помрежа. Отступления от принятого и утвержденного рисунка недопустимы. В связи с этим требованием необходимы метки. Следует добиться филигранно точных и быстрых перестановок.
 Стулья, надо признать, не новый прием, однако в нашем решении они дают возможность отказаться от интерьеров, от громоздкости и натурализма в воспроизведении «Анны Карениной» на драматической сцене. Множество вариативных расположений стульев и кресел в пространстве сцены дадут как профильные, так и обращенные прямо в зал застывания и позы – условный поэтический мир получит реализацию благодаря обозначениям места действия, а это как раз то, что нам нужно, – именно обозначения. Стулья, надо признать, не новый прием, однако в нашем решении они дают возможность отказаться от интерьеров, от громоздкости и натурализма в воспроизведении «Анны Карениной» на драматической сцене. Множество вариативных расположений стульев и кресел в пространстве сцены дадут как профильные, так и обращенные прямо в зал застывания и позы – условный поэтический мир получит реализацию благодаря обозначениям места действия, а это как раз то, что нам нужно, – именно обозначения.
Актерам будет легко и удобно передвигаться от стула к стулу, очень выразительными окажутся мизансцены с их сменами точек. Любая спинка стула может стать опорой для рук, около стула можно стоять спиной, возможности для разнообразной пластики открываются большие, ведь на сцене могут быть созданы и разновысокие скульптурные группы, да и главные герои могут быть проакцентированы в визуально проработанных композициях весьма ярко.
Сложность постановки ожидается из-за гипотетической проблемы сочетания работы со стульями и перемещениями фигур-силуэтов. И все-таки это решаемая задача.
Каждый эпизод – своя конфигурация. Значит, свой план, своя «картинка».
Тут следует чуть подробнее коснуться зрелищного решения спектакля, где главным визуальным козырем будут уже объявленные фигуры-силуэты. Прежде всего – об их смысловой функции.
Зачем они? Что обозначают? Ради чего, собственно, возникнут эти монстры на нашей сцене?
Попытаемся разобраться.
 Толстой консервативен, Набоков модернист. Это грубые определения, но существенно точные. В модернизме важен сдвиг. В нашем случае имеет место сдвиг по размеру. Фигуры-силуэты великанного вида должны споэтизировать в театральном выражении набоковское видение – через гротеск, через сюрреалистический сдвиг, через утверждение ирреального, сновидческого ощущения рассказываемой истории. Толстой – в языке слов, в книге. Набоков весь в воздухе книги, он пульсирует в театральном пространстве, и мы должны помочь Набокову, поддержать Набокова своей впечатляющей театрализацией. Толстой консервативен, Набоков модернист. Это грубые определения, но существенно точные. В модернизме важен сдвиг. В нашем случае имеет место сдвиг по размеру. Фигуры-силуэты великанного вида должны споэтизировать в театральном выражении набоковское видение – через гротеск, через сюрреалистический сдвиг, через утверждение ирреального, сновидческого ощущения рассказываемой истории. Толстой – в языке слов, в книге. Набоков весь в воздухе книги, он пульсирует в театральном пространстве, и мы должны помочь Набокову, поддержать Набокова своей впечатляющей театрализацией.
Фигуры-силуэты двигаются под музыку, они медленно и быстро катаются на своих роликах, поворачиваются боком, то высвечиваются ярким светом, то оказываются в тени, то есть в полутьме. Их жизнь на сцене зависима от происходящего на сцене. Актеры в своих образах иногда прямо общаются с ними: пятятся, когда силуэты надвигаются на них, отталкивают их от себя и т. д.
Сама форма и идея воплощения полупрозрачных силуэтов, между прочим, возникла (получила, точнее, подтверждение) из разговора Анны на балу, в котором свет болтает о потере реализма в современном искусстве, о французах-художниках, пользующихся сдвигом как приемом нового языка.
 Мы подхватили реплику Анны в этой светской беседе и сделали сей гротеск основным элементом сценографии. Используемые также как экраны для марева проекций, фигуры приобретут еще одно качество – мистическое качество миракла, благодаря которому сухое лекционное слово оживет, станет составляющей частью структурного зрелища. Театр – это прежде всего фантазм. Мы подхватили реплику Анны в этой светской беседе и сделали сей гротеск основным элементом сценографии. Используемые также как экраны для марева проекций, фигуры приобретут еще одно качество – мистическое качество миракла, благодаря которому сухое лекционное слово оживет, станет составляющей частью структурного зрелища. Театр – это прежде всего фантазм.
В пользу этого решения пойдет и замысел постановки финала.
Смерть Анны – как ее ставить? Как показывать на театре то, что в кинематографе более-менее ясно-понятно-как!.. Иллюстрировать прозу, вытаскивая на сцену паровоз и вагоны?..
Брр-ррр!..
Делаем вот что. Во время предсмертного «потока сознания» Анны в тишине слышится лязг, опрокинутся назад фигуры-силуэты, а круги, на которых они стояли, примут вертикальное положение, превратясь в «колеса».
Движение этих «колес» по кругу (фигуры управляются светом и монтировщиками) резко остановится (кульминация железного лязга) – это и будет читаться как момент самоубийства Анны. Все шесть колес столкнутся меж собой – Анна пропадет в их нагромождении и нагромождении стульев с торчащими в разные стороны ножками. Мигающий свет. Тени вышедших вперед персонажей?– участников спектакля. Всё.
Конечно, это надо проверить. Надо пробовать. Что-то в процессе проб будет изменено. Но если получится, буду счастлив.
В своей лекции для американских студентов Набоков демонстративно приникает к Толстому, проникает в Толстого. На самом деле это удивительно, ибо Толстой по всем своим параметрам, да и по сути своей, должен бы Набокову быть чужд. Из русских писателей (и это подтверждают его лекции), пожалуй, он наиболее восприимчив в отношении Гоголя (Пушкин не в счет!) с его гофмановским абсурдизмом и малороссийским сказочным колоритом. Для Набокова-художника Толстой слишком тяжеловес, слишком неряшлив в языке… Казалось бы, эстетство Набокова, его искусство располагать слова по-набоковски виртуозно, непредсказуемо, с тысячью тонкостей на каждой странице – не по одной дороге с Толстым, но именно «Анна Каренина» оказывается предметом его восхищения, которым он хочет заразить молодых людей, несведущих в русской культуре, не знающих ни ее историю, ни фундаментальные ценности.
Набоков словно отказывается от себя, кафкианца до мозга костей (хотя и, как известно, открестившегося от знания Кафки в момент написания романа «Приглашение на казнь»), в пользу Толстого, и это парадокс несомненный. Впрочем, весь Набоков состоит из парадоксов. Он обожал одновременно Флобера и Пруста – опять соединение несоединимого. Так же точно Толстой и Набоков – два литературных мага, творящих чудеса на бумаге, но сидевших на разных полюсах книжной планеты – каждый со своим флагом.
Однако – вот поди ж ты! – соединились, побратались…
Иначе как поверить этому «реализму без берегов», если некоторая авантюрность авангардного мышления у самого Набокова постоянно обволакивалась откровениями в совершенно уникальной кружевной словесной вязи, рассказывающей об абсолютно явной, со всеми подробностями сновидческой правде. Набоков чарует, его миры – это грезы, тайны быта, оттенки цветов, переливы настроений, жизнь вещей, значимые бессмыслицы и игра, игра, постоянная игра словами – буквы становятся музыкой с исключительно эффектными мелодиями, ритмами… Читая Набокова, убеждаешься, что у него будто бы своя письменность, свой глаз и свой язык… Такое впечатление возникало – и не только у меня одного – при чтении, пожалуй, еще одного великого языкотворца – Андрея Платонова, но его магия в другом: у Набокова поэтика аристократическая, у Платонова – народная. У Набокова – фэнтези, у Платонова этакий литературный пантеизм.
Так называемым женским вопросом вслед за Толстым занимались такие «женоненавистники», как Чехов и Стриндберг. В противовес Ибсену с его Норой, ставшей культовой театральной фигурой, они так же, как Толстой, анатомировали институт брака и с точки зрения буржуазной морали частенько богохульствовали, отрицая этот самый институт. В обществе сегодняшнем эти тенденции подхвачены феминизмом, радикальные представительницы которого объявляют мужчин своими врагами. На премьере пьесы «Отец» Стриндберга в стокгольмском Новом театре часть зрительниц в знак протеста вообще вышла из зала – вот до чего доходило!
Но вот где Толстой превосходил своих гениальных коллег, так это в том, что называется психологизмом. Он рассказывает историю Анны с превеликим простодушием и если ударяется в кажущиеся Набокову излишними мудрствования и философствования, то делает это исключительно потому, что не может этого не делать: толстовство как миросознание захватывает его мозг и душу, сверхчеловек побеждает в нем сверхписателя – он не только пишет роман, он выполняет миссию Мессии. Он хочет ни много ни мало изменить мир. Он хочет привить человеку новую нравственность. Он хочет сделать веру способом достижения добра. Наконец, он хочет дать человечеству единого Бога, чтобы спасти грешников и уберечь их от новых грехов. Задача непосильная, но Толстой за нее берется и… пишет роман «Анна Каренина» и еще все 90 томов своих бессмертных сочинений.
К актерам
Вы должны чувствовать свои очертания. Это что-то значит? Это значит, что жизнь в толстовских образах должна получиться в графике мизансцен, фиксированных позировках, в формально изощренных – с балетной точностью выполненных композициях.
Игра со стульями и на стульях требует филигранной четкости всех перемещений. Умение «самозеркалить» (по слову Мейерхольда) мне очень даже пригодится.
 Но на вид изысканная пластика не должна помешать внутренним наполнениям – каждый персонаж находится в двух измерениях: театра переживания и театра представления, на их перекрестке. Но на вид изысканная пластика не должна помешать внутренним наполнениям – каждый персонаж находится в двух измерениях: театра переживания и театра представления, на их перекрестке.
Спектаклю необходимы отдельные места (куски), где действие идет, должно идти, с нарушением логики, видимым нарушением. Это для зрителя. А для вас – логика железная. Вы должны (с моей помощью, естественно, и под моим контролем) эту логику найти и обнаружить для себя, а для зрителя постоянно скрывать. Зрителя следует чисто провокативно сбивать с логики – тогда только появится второй план и станет ИНТЕРЕСНО. «Магия стиля» – набоковское выражение. И пусть оно вдохновляет нас.
Персонажи живут тайной жизнью, зритель обречен эту тайну разгадывать. Следовательно, «запутывать зрителя» – наша задача.
Коллажный принцип заставит всех участников существовать на сцене в свободных переключениях, ритмически разнообразно, сочетая контрастные ускорения и замедления речи и поведения.
Однако – внимание! – коллажно-монтажный принцип делает оправданным применение так называемого симультативного действия как метода в нашем режиссерском решении – персонажи почти не уходят со сцены и присутствуют ОДНОВРЕМЕННО даже в эпизодах, в которых не участвуют. Но их поведение организовано таким образом, что их оценки и реакции становятся чрезвычайно важными, не менее важными, чем собственно диалоги. Их присутствие есть условность, они видимы и при этом находятся в логике СВОИХ задач и поступков.
Зрелищная составляющая при таком решении очень вырастает, ибо зритель начинает следить не только за основным действием, но и за параллельными ему художественными проявлениями – все участники становятся соучастниками действа. При этом приоткрываются тайники души – ведь ВСЕ как бы слышат ВСЕХ, и это делает развитие сюжета как минимум более интересным.
Если Каренин как бы «присутствует» при тайных свиданиях Анны и Вронского и как бы воочию видит измену жены (то самое «прелюбодеяние», о котором толкует адвокат), в этом случае театральное раскрытие психологии персонажей будет гораздо более острым!..
Симультанность – это прием, благодаря которому появится множество актерских оценок – их наглядность будет работать сильнее, чем предположительность. К примеру, сцена Стивы и Анны, где Стива «придумывает» развод, вырастет, если при диалоге будут принимать участие – молчаливое участие! – Каренин и Вронский. Их действие – в контрапункте условного, в какой-то мере знакового выражения образа ТРЕУГОЛЬНИКА, вершины (углы) которого – Анна – Каренин – Вронский. Если диалог Стивы и Анны находится в режиме реального времени и пространства, то ожившие фигуры Вронского и Каренина – это мистические отражения самое себя, возникающие по ходу разговора. Его Величество Театр торжествует в сей момент, ибо ни у кого из зрителей не будет ни единого вопроса типа: «Почему Вронский и Каренин сидят вместе на креслах рядом друг с другом – они что, слышат этот разговор?» Мой ответ: они как бы слышат! И они соответственно ведут себя – переглядываются меж собой и Анной и даже встают с кресел, когда надобно, чтобы они встали!..
Игра со стульями заставляет актеров жить вне бытовой логики рассказываемой истории, делая акцент на визуальном лицезрении, но правда на сцене извлекаема из игры, вся убедительность которой в том, что это игра воображения персонажей-участников и зрителей.
Анна – женщина без компромиссов, а все остальные – Стива и Долли, Левин и Кити, весь «Вавилон» – договорились о терпимости к семейной лжи. Хочется добиться разгадывания этого основного конфликта и романа, и нашей театральной интерпретации. То есть нужен процесс от непонимания к пониманию, от неясности к ясности.
Если в «Анне Карениной» все будет ясно с самого начала, все провалится. Лектор окажется занудой, Каренин во всем прав, а Анна – «развратная женщина», и ничего больше.
Когда я настаиваю: «вы должны видеть свои очертания», это призыв театрально опоэтизировать пьесу, своего героя или героиню. Однако очертания должны быть наполнены. Бытие на сцене предполагает вытрату всех душевных ресурсов – для этого необходима готовность к психологическому расстройству, в котором пребывает абсолютное большинство персонажей. Под душевным расстройством требуется понимать не только состояние легкого сумасшествия всех, кто играет спектакль, следуя всем известному сюжету, но – скорее – общую взвинченность и нервность происходящего и стремительного рассказа о происходящем. Речь идет об отношении к тексту, произносимому с алогичными интонациями, мотивированными не только предлагаемыми обстоятельствами, но еще и общей повышенной экспрессией всех участников событий.
Под взглядом Набокова наше действо становится симулякром Толстого. Это «фэнтези» по поводу Толстого, на материале Толстого, но не собственно Толстой. Актриса, играющая Анну, таким образом, это и Анна – живой человек, и знак Анны. То же и с Вронским, Карениным и другими. Все они – заменители. Театральные заменители якобы реальных лиц, живущих в романе, а на сцене они существуют в двух ипостасях – условной и естественной, плотски выраженной – одновременно.
Вы спросите: как сыграть ЗНАК?
В этом-то вся сложность!
Следует совместить точный психологический ход, понуждающий зрителя верить в явление на сцену абсолютно реальных конкретных людей, которые в ходе спектакля преображаются в нашем восприятии в этакие модели людей. Вешаем на них таблички: «Анна», «Вронский», «Каренин» и другие, и эти модели будут читаться как своеобразные отображения самих себя в зеркалах набоковского видения. В театре это как бы взгляд со стороны – все персонажи во власти Лектора, на наших глазах строящего мир Толстого. Отсюда ПОДЧИНЕНИЕ всех воли Лектора, становящегося наподобие режиссера тираном, коего назовем по-доброму – хозяином представления.
У наших персонажей, с одной стороны, человеческая, а с другой – этакая кукольная сущность, бояться этого двуединства не надо. Наоборот, надо попытаться его создать и выявить. Симулякры-притворщики окажутся реальнее своих прототипов. Другими словами, возникшие на сцене образы будут для зрителя более правдивыми, чем для читателя. Ибо игра бывает гораздо более явственной, чем всамделишность. К тому же, согласитесь, в театре мы показываем не жизнь, а наше сновидческое представление о жизни.
Конкретные замечания
Каренину – никогда не повышать голос. Взорваться позволительно всего два-три (от силы) раза. Он жертва, злящаяся, что он жертва. Воспитание не равно порядочности. Не дает развода, но обещает развод – зерно роли. Он не ревнует. Он тянет время, ускользает от решения. Его действие – бездействие. Ревность как любовь навыворот ему чужда.
Вронскому – вести роль без нажима, с достоинством, переносящим боль… Самая большая опасность – изображать героя-любовника со всеми присущими этому амплуа штампами. Красавец? Да, красавец, но не мужик, а только с виду мужик. В какой-то момент (в конце) выглядит и безвольным, и трусоватым… Он мечется, теряя Анну, оттого и себя теряет. Предательство Вронского – для Анны удар страшной силы, но сам Вронский предателем себя не ощущает. Он опирается на свою правоту (мои дети будут Каренины!) как бы с радостью, этим аргументом он высвобождает себя от тяжести Анны. Но легче ему не будет. Ключевая фраза: «В тебя вселился злой дух!» в ответ на решение Анны НАКАЗАТЬ любимого своим самоубийством. В этот миг Анна действительно зла. «Непереносимо»!
Анне – придать силу и мощь. Неуравновешенных переживаний. Плаксивый тон исключается. Харизма ее выстраивается на бетонном фундаменте самого дорогого толстовского тезиса «Не приемлю лжи и обмана, в котором погряз мир». Да, так считает отъявленная грешница, которая если честна, то только перед самой собой. Важно церковное осуждение греха, но оно производится устами мужа-карьериста. Вся роль Анны – искренние поиски выхода из множества тупиков. Ее истерия не столько в рыданиях и вожделениях, сколько в абсолютно рациональном неприятии обращенного к ней со всех сторон лицемерного зла. Толстовская грешница – «не из единой достоевской семьи заламывающих руки героинь» (В. В. Набоков), но тема падения, унижения по-разному трактуется этими разными авторами: Федор Михайлович пишет о «подполье» с упоением, а Лев Николаевич – с состраданием.
Характер Анны Карениной даже в ее снах остается верен и последователен – своей женственностью она, раздавленная железом, все равно сильнее всех. Она клятвенно противостоит «развратному Вавилону», который не стоит ее мизинца. У этой роли беспредельные чувственные резервы. Играть Анну – играть трагическую судьбу женщины, восставшей во весь рост после своего падения, но это падение в Любовь – как в пропасть. Все женщины мира мечтают хотя бы чуть-чуть рецептивно пожить счастьем Любви, хотят иметь в жизни хотя бы миг ошеломляющей, переворачивающей все на свете страсти. Да не «падшая»! А – возвышенная! Без любви – опустошение, обесценивание смыслов жизни вплоть до материнства.
Убрать интонации с придыханием, высокопарность речи и провинциальный мелодраматизм. Легче, наполненнее и тише, нежнее и тише. Бесспорно необходимо полное погружение в роль, подразумевающее огромную психофизическую вытрату. «Придыхания» запрещены. Мелодраму выжигать каленым железом. Рвать страсти не дам. Штампы – опасность №1.
Левину – избежать дидактики и назидательного морализирования, коими пронизана роль, можно лишь одним способом: попытаться присвоить мысли Толстого, придав им МОМЕНТ открытия в МОМЕНТ произнесения. Конечно, есть дистанция между авторскими пассажами и внутренним миром Левина – alter ego Льва Толстого.
Наив Толстого в изображении Левина – это наив богатыря, принявшего миссию моралиста: ходульность тут неизбежна, но на сцене ее надо во что бы то ни стало преодолеть. Как?
Способ один – придать размышлениям Левина истовость настоящей русской боли. Левин – это почти Гоголь перед смертью. Не внешне Гоголь, конечно, а расщепленный изнутри человек, ищущий гармонии.
Его сумасшедшая любовь к Кити оборачивается крахом, ибо с дурочкой ум несовместим, – эта, казалось бы, обретшая счастье парочка лопнет после окончания толстовского романа… Христианин Левин (не еврейская фамилия тут важна, а легко читаемая прямая связь с именем «Лев») обрушит свою счастливую семью, как обрушил ее сам Толстой, убежав от Софьи Андреевны из Ясной Поляны. И этот подвиг мученика уже никакой не наив, он сродни самоубийству Анны, которую Кити считает жалкой, а Левин предпочитает своей недалекой жене. Счастье Левина – Кити есть мнимость. Тем самым сам институт семьи и брака есть еще большая мнимость. Позиция Толстого в этом вопросе крайне неприятна, но ничего не поделаешь!..
Артист в роли Левина должен избежать резонерства, сделав свое страдание от духовного разлада с Кити главным мотивом обращения к Богу как спасителю души, ведь потерянное счастье – это смерть при жизни, это крах.
Мы увидим Левина с косой, Левина-сеятеля и трудоголика – и над ним жестоко посмеются монстры и тени «нашего развратного Вавилона».
«Анна Каренина» имеет множество любовных сцен. Как «играть любовь», чтобы зрителя не стошнило? Вахтангов говорил: «Требуется, чтобы он сжал, прижал или вынул из груди сердце и преподнес любимой, так как подразумевается, что этой именно машинкой человек любит».
Левин объясняется с Кити именно таким манером. Припав на одно колено, он делается похож на Мозжухина перед Верой Холодной.
У Вронского другая «машинка». Он кишки выкладывает, он в почти бессознательное состояние впадает. Его любовь вне рамок приличия. Греховный вид обязателен. Что-то непозволительное должно на миг сверкнуть!.. к черту мораль!.. тут вседозволенность в намеке мелькнула. Самозавод. Возбуждение. Неуправляемость собственных эмоций. Аффект – акт жизни и любви.
А у Левина – чистые поцелуи, соответствующая жестикуляция, неподдельная картинность поз – даже с косой… И Лео Толстой крупным планом на фотографии – волосы дыбом, безумец-старик, глаза фанатика… Воздержание. Вдохновение скрываемыми чувствами. Стеснительность.
Духовность Левина делает его чужим на балу, а в деревне он становится смешон. Здесь уместны издевательства над ним – наподобие того, что происходит в «Истории лошади», когда юные измываются над стариком, бьют старика.
Все интерпретаторы (режиссеры версий) «Анны Карениной» избегали Левина, беспощадно вымарывали его из персонажной системы, он казался лишним, ибо был не в сюжете (последние главы, посвященные Левину, считались ненужным довеском). Между тем без Левина нет Толстого в «Анне Карениной». Как Гамлет (для К. С. Станиславского) «слился» с Христом (лучшим из людей), так Анна – худшая из худших – недосягаемо великая женщина, пренебрегшая законами государства и света, и потому своеобразная бунтовщица, ибо идет вопреки, идет поперек, – она и рабыня своих чувств, кои руководят ею и делают героиней романа.
Анна восходит на Голгофу чувств, ее подвиг готовится самоистязанием, она сверхженщина, ибо руководима своим сверхсексом.
Вронский был человек, когда был с ней, страстной и честной, но стал предметом, как только остыл к Анне.
Кристальная чистота грешницы – вот основа основ драмы Анны, любящей безудержно – завидуйте ей! – и притом страдающей из-за понимания своего предательства сына, маленького, ни в чем не виновного человечка. Каренин, как опытный сукин сын, вовсю пользуется этой слабостью Анны-матери и едет в министерство с полнейшим ощущением своей правоты перед Богом-Христом.
В персонажной системе Толстого хочется углядеть основу конфликта «Анна и общество», и этот душераздирающий конфликт следует играть как главный, фундаментальный конфликт романа. Гений Толстого – не в том, что он «зеркало русской революции» (В. И. Ленин), а в том, что он столкнул нравственность и безнравственность на примере частной жизни частных людей. В сущности, «Анна Каренина» – это история безумной любви, безумной измены – и что из этого вышло! С позиции жесткого христианства вся трагедия выглядит закономерной и оправданной, но с позиций сугубо человеческих мы видим, что законы и мораль несовместимы, напряжение растет по ходу развития быстротекущего сюжета жизни и в финале приводит к смертному концу, что опрокидывает наше осуждение Анны, делая ее героиней, которую автор Лев Николаевич Толстой призывает больше не чернить.
И. А. Бунин написал «Освобождение Толстого» о побеге Толстого из привычной неправедной жизни, и слово «освобождение» через смерть – точно, ибо человек свой уход трактует как единственно возможный акт самозащиты. Нет. Самоспасения.
Трагедия Анны – месть себе и всем, это результат ее морфинизма, а морфинизм, в свою очередь, результат ее страшного несоответствия реальности, пронизанной обманом и ложью.
Анна никогда не сможет, как Долли, жить, зная о неверности мужа, и при этом создавать видимость семейного счастья. Даже дети – не барьер для разрыва с жизнью. Воспоминание о Сереже в последний день ее не останавливает: все ниже ее главного всесокрушающего чувства – чувства Любви.
Приходилось слышать, что роман Толстого вовсе не о любви и измене, а о трагедии бедного, обманутого мужа – это, несомненно, не просто обеднение смыслов великой прозы, а – гораздо хуже! – абсолютное непонимание или даже неприятие этих смыслов. Зачем скашивать содержание романа в сторону одного из главных персонажей, драма которого безусловно существенна, но она всего лишь вытекает из романного потока и хотя бы потому не может претендовать на роль главного течения? Оскорбленность – это результат раскручивающейся снежным комом ситуации, когда адюльтер действенно приводит Каренина в состояние окаменелой неподвижности – обещает развод и не дает развода, – следовательно, лжет, погружает Анну в обман, в это месиво мнений и пересудов, – тем самым гонит ее к проклятому смертоносному поезду. Пассивность Каренина – внешняя, его «окаменение» на самом деле действенно, ибо загоняет влюбленных в тупик, держит в страшном напряжении и готовит трагический финал. «Как я пеле… пеле… страдал!» – комическое и горькое одновременно саморазоблачение Каренина, без иронии его нельзя воспринимать.
Конечно, Каренин близок и понятен всем семейным мужчинам, на которых обрушилась (или может обрушиться!) измена супруги, начинающей видеть оттопыренные уши мужа ПОСЛЕ сближения с потенциальным любовником. Каренину положено сопереживать. Однако и в набоковской интерпретации, и в нашей многоемкость образа будет достигнута, если «доведенная до отчаяния грязью и мерзостью, в которой тонет ее любовь», Анна как бы слышит на скачках двусмысленное заявление мужа «Моя скачка труднее», после чего и следует ее признание в измене, и дальше ненависть, ненависть…
Вронский сломал позвоночник Фру-фру, и это символично (как и смерть путевого обходчика под железом колес): жизнь Каренина, карьера Каренина так же сломана, а жизнь Анны вконец разбита.
Тон второго акта резко меняется. Если первый акт рассказывает о безмятежном счастии основной пары, которое в финале взрывается признанием Анны «Я его любовница!», то все дальнейшее действие есть расплата за грех, подготовка расплаты и сама расплата… Атмосфера сгущения угроз и треволнений, растущая на глазах нервозность, мотивированная морфином, медленно и поступательно движет героиню, изнемогающую от любви, – есть такой фильм «Соблазненная и покинутая» – так называется! – к каре: наказывая Вронского, она наказывает себя. Дьяволица, «злой дух», в нее вселившийся, полусонное состояние морфинистки, которая умильно улыбается вывескам, искренность болезненного восприятия всего этого мелькания жизни вокруг нее, наконец, собственно весь городской мираж – эти вещи нельзя упустить в постановке, в игре, свете, музыке, пластике, в самой структуре зрелища, якобы увиденного и продемонстрированного нам Лектором, то есть театральным заменителем Набокова…
Переливы настроений на контрастной основе.
Фоновая музыка, ее партитура, подробная, включающая акценты – звуковые всплески.
Тема смирения, умиротворения, дающая возможность сосредоточения, лирического знака и постоянного, нарастающего напряжения…
Тема «железа», разрушения «железом» – нагнетание бесчеловечного (судьба сторожа, разрезанного на куски, и трагедия Анны, выбирающей себе место меж колес).
Живая Анна и железо. Сон и явь. Фрейдистское насилие себя во сне, который в реальности комментируется как наваждение. Смерть под железными колесами преследует Анну, понявшую эту смерть как «дурное предзнаменование».
Не впасть в символятину. Осторожное использование сна как средства приближения к самоубийству.
Прелюд Шопена в стык с темой железа – кульминация, после которой, собственно, и должен пойти «поток сознания», открытый Толстым, по замечанию Набокова, «до Джеймса Джойса».
Чувственная, нежная, мелодически пронзительная музыка и оглушительная психоделика ударов и аккордов темы железа.
Отобранная музыка
1. Р. Вагнер
«Тристан и Изольда». Увертюра
2. С. Прокофьев
Скрипичный концерт №1. Андантино
3. С. Рахманинов
Вокализ op. 34. № 4
4. П. Чайковский
Серенада для струнного оркестра «Анна Каренина»
5. Ф. Легар
«Die lustige Witwe», «Lippen schweigen»
6. Гуно
«Ромео и Джульетта». Фрагмент
Je veux vivre dans de reve
7. Бизе
«Кармен». Фрагмент
8. Ф. Шопен
Прелюдия B minor op. 28, D minor op. 28
9. И. Штраус
«Songs of Love» op. 114
10. Галерея экспериментальной музыки
Интродукция
Бензольные мертвецы
Саша Пушкин
Бром
Веданъ Колоде «На море береза»
Использование – цитатное
Постановочная работа по нашей «Анне Карениной» уже подходила к концу, когда неожиданно для себя я натолкнулся в интернете на поразивший меня текст под вызывающим названием «Анна Каренина. Не божья тварь». Позволю себе несколько слов в качестве комментария.
Некто Марина Воронцова-Юрьева буквально поливает Анну из помойного ведра с агрессивным невежеством, переходящим в неистовую злобу, которая более уместна на вонючей коммунальной кухне, нежели в литературе. Это так называемое эссе написано в разнузданном стиле в жанре этакого клеветнического доноса. Грубость тона выдает авторскую закомплексованность – автор хамит всем подряд: читателям, Толстому, Набокову и… персонажам великого романа. Воронцова-Юрьева подвергает нападкам литературный образ – ситуация фантастическая, ибо ненависть одной женщины к другой тут очевидна, вот только удивительно одно: живой человек стирает в порошок существо, живущее исключительно в нашем воображении – благодаря писательскому гению Толстого! Анна преподносится как образец женской подлости, низости, мерзости. Досталось и Набокову, имевшему противоположный взгляд. При этом, конечно, вспомнилась крыловская басня о некой Моське, лающей на cлона.
Вот так сегодня оказывается возможна вся эта псевдокритическая, графоманская дурь, имеющая целью сбить нас с глубинного аналитического пути ПОСТИЖЕНИЯ (взамен УНИЖЕНИЯ) первоисточника, – а что это, как не свидетельство культурной деградации нашего современного мира.
«Эссе» начинается с «Обращения к дуракам» (простите за единственную цитату):
«Предупреждаю сразу: или немедленно закройте мое эссе, или потом не упрекайте меня в том, что я в очередной раз грубо избавила вас от каких-то там высоконравственных розовых очков, которые так успешно, как вам казалось, скрывали ваше плоскоглазие и круглоумие».
Спасибо за предупреждение. Однако сей эпатаж действует лишь в условиях рассеянной пустоты, то бишь бескультурья.
Роман «Анна Каренина» Льва Николаевича Толстого не нуждается в подобных дезориентирующих нормального читателя – отнюдь не «дурака»! – критических текстах. Нам ближе другое осознание безграничных миров Толстого, чему на такой недосягаемой высоте собственного творчества нам помог другой великий чародей русского слова – Владимир Владимирович Набоков.
Приглашаю вас на спектакль Театра «У Никитских ворот».
После этого наш разговор об «Анне Карениной» может быть продолжен, не так ли?.. |