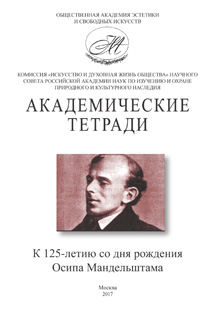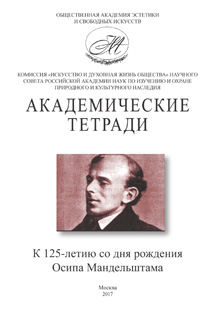 |
|
На заре своего бытия Древняя Русь предпочла путь святости пути культуры.
В последний свой век она горделиво утверждала себя как святую,
как единственную христианскую землю. Но живая святость ее покинула.
Георгий Федотов «Святые Древней Руси»1
«Сакральное» как феномен русской художественной культуры
Когда мы размышляем о месте сакрального и секулярного в истории художественной культуры, нам приходится иметь в виду, что, во-первых, сакральное и секулярное в культуре генетически неотделимо от религиозного опыта и его различных трансформаций, но не тождественно религии и ее конкретно-историческим модификациям; во-вторых, что граница между сакральным и секулярным в культуре как целом и в ее художественно-эстетических составляющих исторически изменчива и семантически зыбка и, в-третьих, что формы воплощения сакрального и секулярного в художественной культуре и, в частности, в искусстве весьма разнообразны и трудно предсказуемы, но всегда представляют собой прежде всего художественно-эстетические феномены, лишь косвенно репрезентируя в себе религиозно-мистический опыт.
Особенно интересно и теоретически важно наблюдать за метаморфозами сакрального и секулярного в истории русской художественной культуры, которая, с одной стороны, неотделима от истории религии и религиозности в России, а с другой – наполнена драматизмом мучительного высвобождения из-под ауры религиозного опыта. Стоит напомнить ожесточенный спор между Гоголем и Белинским (в их знаменитой переписке), в котором Гоголь доказывал, что русский народ – «самый религиозный народ в мире», а Белинский ничуть не более убедительно, но гораздо более неистово отстаивал тезис о том, что русский народ – «самый атеистический» в мире. Последующие более чем полтора века русской и советской истории нисколько не распутали этого спора, но даже добавили в него привкус принципиальной его неразрешимости.
Вл. Соловьев в своей центральной эстетической работе «Общий смысл искусства» (1890), стремясь максимально развести религию и искусство, писал о совершающемся «переходе от их древней слитности к будущему свободному синтезу». Последний вывод, прогнозируемый Соловьевым, он мотивировал тем, что «та совершенная жизнь, предварения которой мы находим в истинном художестве, основана будет не на поглощении человеческого элемента божественным, а на их свободном взаимодействии»2. Главная проблема, поставленная Вл. Соловьевым и оставшаяся без ответа, конечно, и заключалась в том, каким может быть этот «свободный синтез» религии и искусства в культуре и как может быть осуществлено их «свободное взаимодействие», исключающее «поглощение человеческого элемента божественным», а то и прямое подавление последним первого (чаще всего наблюдаемое в истории). Речь здесь идет о таком соотношении сакрального и секулярного в искусстве, при котором наблюдается некий «паритет» сакрального и секулярного, их взаимная уравновешенность в целом художественной культуры.
С другой стороны, хорошо известна попытка другого религиозного мыслителя русского Серебряного века, священника Павла Флоренского, по-своему представить такой свободный синтез искусства и религии, при котором все виды искусства будут исподволь пронизаны бессознательной религиозностью, а сама религия будет представлена как «храмовое действо», реализующее в себе наивысший «синтез искусств». Завершая свою рубежную статью «Храмовое действо как синтез искусств» (1922), о. Павел Флоренский замечал: «Не к искусствам, а к Искусству, вглубь до самого средоточия Искусства как первоединой деятельности, стремится наше время»3. Рассмотрение религии, современной ему, как синтеза всех мыслимых и немыслимых искусств приводит П. Флоренского к осознанию различных искусств как творческих компонентов религии, исподволь пронизанных сакральностью, а сама религия как целое видится как Искусство искусств, то есть как художественно-эстетический феномен по преимуществу. Противоположность между религией и искусством у Флоренского «снимается» в плоскости «панэстетизма», в результате чего и различные искусства, и сама религия рассматриваются как составные части художественной культуры, своего рода теургического «всеединства».
Во всех случаях сравнения религии с искусством говорится об объединяющей их творческой фантазии, порождающей новые, не существовавшие до того образы, событийные сюжеты, иносказания, картины мира; о сильном эмоциональном сопереживании реципиента воображаемым явлениям и представлениям и нравственно-эстетической их «заразительности», о взаимосвязи религиозной идеологии и литургического действа; о «синтезе искусств», различно осуществляемом средствами религии в рамках культа и средствами искусства в художественной культуре.
Различие между религией и искусством в этом отношении проводится по ряду оснований. Во-первых, обе области в отношении образности и эмоциональности переживаний самодостаточны; обе могут существовать автономно, друг без друга. Во-вторых, при взаимодействии между собой, несмотря на различные способы идеализации отношений между искусством и религией, эти области не являются равноправными. Попадая в религиозную среду, в сферу культа, художественные произведения выполняют вспомогательную, обслуживающую функцию для привлечении верующих. Попадая в среду искусства, религиозные представления и символы становятся материалом для построения художественно-символических, а не собственно религиозных образов. В-третьих, религия связывает внерациональный опыт человека с областью священного, тогда как в искусстве внутренний опыт переживания выражается в светской форме. Иными словами, в зависимости от культурно-исторического контекста в отношении сакрального и секулярного акцент постоянно перемещается: то сакральное превалирует над секулярным, то, напротив, преобладает секулярное.
Соответственно, из сопоставления религии с наукой и искусством становится понятным, что границы между ними в культуре, постоянно перемещаясь в ту или иную сторону, тем не менее поддерживаются – со стороны религии и секуляризованной культуры, и самодовлеющая значимость религиозной культуры продолжает сохраняться и в условиях современной художественной культуры.
Весьма плодотворным в понимании причин этого оказывается противопоставление явлений светского, мирского и священного порядков. С последним в культурологии связываются сама религия и явления, непосредственно относящиеся к культам и внутренней религиозной жизни человека. Когда исследователь определяет разграничительную черту между мирским и священным аспектами культуры и внутри конкретных культурных явлений (в том числе явлений искусства), тем самым выявляется глубинное напряжение этих двух «модальностей» культуры. Он сталкивается с тем, что в каждой культуре существуют феномены, которые принято считать нерукотворными, боговдохновенными, сверхчеловеческими. В?каждой из них принято говорить о неспособности человека преодолеть свою подчиненность неведомым силам, до конца познать мир и самого себя, предсказать случайное. Такого рода феномены обычно объединяются в область священного и трансцендентного, становясь предметом религиозного поклонения и культа.
В рамках такого подхода вся история мировой культуры представляется культурологу в виде непрекращающегося процесса сосуществования и борьбы двух «модальностей» культуры – священной и светской, а точнее – сакральной и секулярной, где первая как бы задает предельные значения существованию второй. Религия есть форма культуры, в которой зафиксированы и санкционированы как священные (сакральные) те переживания, тот опыт человека, которые в принципе не рационализуемы, невыразимы, но в то же время универсальны и имеют важные последствия для становления личности и культуры. Такой опыт называется духовным (в узком значении этого слова) и выражается в представлениях людей о сверхъестественном и трансцендентном. Светская культура представляет собой рациональное стремление человека постоянно преодолевать ограниченность собственной жизненной среды, осваивать новые источники ресурсов, изобретать технологии, приспосабливать к себе окружение. При этом усилия людей выйти за рамки непосредственного восприятия обретают несакральную, рациональную форму упорядочения и организации коллективных знаний и практического опыта.
В конечном счете все эти рассуждения при всей их подчас терминологической изощренности (например, светская культура – это «опредмечивание субъекта и гуманизация объекта в процессе творческой деятельности», а религиозная культура – это «отчуждение субъекта и обожествление объекта»4) представляют собой указание на существующее разграничение познанного и непознанного (или непознаваемого), рефлексируемого и бессознательного, освоенного и неосвоенного, непосредственного и освященного. В культуре, таким образом, выделяется область сакрального, а религия трактуется как специализированная деятельность, направленная на познание, духовные практики, переживания, отношения и институциализацию сакрализованной реальности.
При изучении этой области культуры по сути дела неважно, порождаются ли представления о сверхъестественном как иллюзорное преодоление людьми в собственном воображении бедственного положения, своей беспомощности, одиночества, страданий и т. д. либо как ощущение вне их объективно существующего трансцендентного мира, свободного от человеческих переживаний и коллизий. Речь идет о том, что феномены сакрального универсально антропологичны и составляют самодовлеющую область феноменальной социокультурной реальности, обладающую в культуре предельными значениями и смыслами. Тем более несущественно различие между разными интерпретациями сакрального в искусстве, где сакральное постепенно превращается в метафору священного, трактуемую в прямом и переносном смысле.
Соответственно, секулярное предстает в художественной культуре не столько как антипод сакрального или контекст восприятия сакрального, сколько культура, лишенная своих предельных значений, задаваемых сакральным. В этом смысле секулярное вслед за сакральным постепенно становится также метафорой. Первоначально секулярное по сравнению с сакральным воспринималось как освобождение от религиозных догм, ритуалов, заданных системой образов и мотивов, и в этом качестве оно было радостным и творческим, даже когда казалось кощунственным и вызывающим (диалоги Лукиана из циклов «Разговоры богов», многие новеллы из «Декамерона» Дж. Боккаччо, «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле, «Орлеанская девственница» Вольтера, «Война богов» Парни, «Монахиня» Д. Дидро, «Гавриилиада» Пушкина, «Легенда о Великом инквизиторе» Достоевского и т. п.). Смелость воображения и художественной фантазии, новизна ассоциаций, бесстрашие познающей мысли, не останавливающейся перед нравственными барьерами ради достижения поразительного эстетического эффекта, – таковы позитивные критерии секулярного в художественной культуре.
Однако постепенно идейно-образное наполнение секулярного начинает изменяться в более мрачную сторону. Секулярное немыслимо вне оппозиции с сакральным, и только в паре с сакральным секулярное обретает свой смысл. До тех пор пока сакральное воспринимается как слепая вера в религиозные догматы, как мрачное наследие Средневековья, как косная система мировоззрения, базирующаяся на неизменных постулатах вечных истин, секулярное мыслится как «царство духовной свободы», как воплощение антропоцентризма в культуре, как революционный сдвиг в сознании «восставших масс». Так понималось сакральное в эпохи эллинизма, Возрождения, Просвещения, романтизма, в периоды революций… Однако периоды воодушевления секуляризацией культуры сменялись периодами уныния: секулярная культура повседневности казалась монотонной, бесконечно повторяющейся, эмоционально и интеллектуально не одухотворенной. Возникает своего рода «тоска по Сакральному» (как бы различно ни толковалось сакральное – религиозно, мистически, политически, нравственно, эстетически).
С появлением новых идеалов и смыслов сакрального меняется и метафорика секулярного. Если сакральное ассоциируется с экстраординарностью, эксклюзивностью, избранничеством, уникальностью; с извлеченностью сакральных ценностей из общего контекста (привычного, обыденного, банального); с одухотворенностью бытия, – то секулярное начинает воплощать в себе семантику ординарного, привычного, инерционного, рутинного; подчас – бездуховного, обессмысленного бытия. Сама «лишенность» человека предельных значений культуры и бытия воспринимается как ущербность, как человеческое несчастье, как глубокий и невосполнимый кризис культуры. В такие периоды истории культуры, освященные доминантой новых сакральных ценностей, секулярное обретает трагический смысл опустошенного существования.
Соотношение сакрального и секулярного, особенно в русской культуре, исторически изменчиво и релятивно. Далее представлено несколько культурных «срезов», демонстрирующих постепенное размывание антиномии «сакральное / секулярное» в истории русской культуры и изменение содержания каждого из этих концептов.
Расщепление «культуры-веры» (у истоков секулярного знания)
В Средние века, как и в более ранних архаических культурах, хотя и по-своему, вся культура была в той или иной мере сакрализована и синкретична. Необходимость отделения священного от мирского на практике возникала относительно редко, когда было необходимо со- или противопоставить жизнь клириков и мирян; власть – светскую и духовную, с одной стороны, и обывателей, живущих повседневностью, – с другой.
Еще в большей степени подобный синкрезис был характерен для культурологической мысли своего времени (точнее, мысли предкультурологической), поскольку сама культура была менее дифференцирована по сравнению с позднейшей, что проявлялось в слиянии социального и культурного, в тесной сопряженности священного и мирского, в неразличении понятийного и образного рядов, сливавшихся в едином символическом плане, в преобладании партиципации над каузальностью, ассоциативности над системностью и т.д. Кроме того, средневековая культура, особенно древнерусская, не знавшая ни специализированного богословия, ни философии и наук, не имевшая университетов, была по преимуществу синкретической «культурой-верой»5, в рамках которой действуют иные закономерности, нежели, скажем, в культуре Нового или Новейшего времени. Западноевропейская средневековая культура также была более дифференцированной и аналитичной сравнительно с древнерусской и в своей основе не была «культурой-верой», то есть не отличалась сплошной сакрализованностью.
Применительно к ранним, архаическим формам культурологической мысли, складывавшимся еще в эпоху античности или Средневековья, можно заметить, что одной из творчески продуктивных разновидностей предкультурологической мысли была религиозная схоластика, сравнивавшая и обсуждавшая богословские концепции и доктрины не столько ради прояснения высшей истины, во многом недоказуемой, сколько ради красоты систематизации, эстетической гармонии религиозных представлений о мироздании. В западной традиции таким «культурологом Средневековья» был, несомненно, св. Фома Аквинский, который в своей «Сумме» разворачивает перед читателем всеохватную теологию культуры, а среди восточных отцов Церкви можно было бы назвать в этом ряду очень характерные фигуры Иоанна Златоуста и Василия Великого, осмыслявших современную им культуру с богословской точки зрения. При этом структура представляемого средневековыми мыслителями знания со всей своей рациональностью и систематикой была скорее секулярной (научной или наукообразной), а смысл его был сакральным.
У истоков русской культурологической мысли мы видим несколько интересных фигур, однако во многих случаях для глубокого исследования культурологических концепций древнерусских религиозных мыслителей недостает необходимых источников. О митрополите Иларионе мы можем судить лишь на основании его «Слова о Законе и Благодати», хотя и этот текст красноречиво свидетельствует о культурных истоках русского мессианизма. О концепции преп. Сергия Радонежского, его учении о Троице, имеющем очевидно культурологический характер, мы знаем еще меньше, поскольку он вообще не оставил после себя авторских текстов, и приходится иметь дело лишь с житийной литературой о св. Сергии, не выходящей за рамки принятого канона стиля. Поэтому большинство наших интерпретаций этих учений всегда будут носить лишь гипотетический (в той или иной мере) характер, а о становлении русской культурологической мысли в этих текстах можно говорить условно – как о гипотетической предыстории русской культурологической мысли, драпирующейся в сакральные одежды.
Даже глубочайшее прозрение кн. Е. Н. Трубецкого о значении Троицы в представлениях св. Сергия («В Древней Руси не было более пламенного поборника идеи вселенского мира, чем св. Сергий, для которого храм Святой Троицы, им сооруженный, выражал собою мысль о преодолении ненавистного разделения мира»6) представляет собой скорее гениальную догадку, нежели строгое доказательство. Смысл этой догадки в том, что триады любого рода – лучшее средство против раскола, в то время как любые антиномии и оппозиции «работают» именно на раскол.
Иное дело – преподобные Нил и Иосиф, которые не только были учителями и наставниками нескольких последующих поколений религиозных деятелей Древней Руси, но и вошли в историю русской культуры как авторы двух влиятельных и концептуально противоположных по смыслу учений, оказавших противоречивое влияние на формирование русской культуры. Известно, что напряженные, подчас острые споры между идейными наследниками и последователями Нила («нестяжателями») и Иосифа («иосифлянами») в конечном счете привели к русскому религиозному расколу XVII в. (а перед тем способствовали возникновению Смуты, прежде всего – ее мировоззренческих оснований). Это идейное противостояние двух интерпретаций святости представляет собой именно антиномию, дилемму, сформировавшуюся в недрах русского Средневековья.
«Иосиф Волоцкий и Нил Сорский являются символическими образами в истории русского христианства. Столкновение их связывают с монастырской собственностью. Иосиф Волоцкий был за собственность монастырей, Нил Сорский – за нестяжательство. Но различие их типов гораздо глубже»7, – отмечал Н. Бердяев, усматривая в этом различии драматический узел дальнейших исторических судеб России.
Русские религиозные философы ХХ в. (Н. Бердяев, Г. Федотов и др.) были убеждены, что учение Нила Сорского во многом подготовило духовные искания русской интеллигенции XIX в., в том числе богоискательство Гоголя, Достоевского, Л. Толстого, русских религиозных философов ХХ в. и религиозных диссидентов. В то же время Иосиф Волоцкий своим учением предвосхитил не только принципы, на которые опиралось старообрядчество, но и церковную реформу Петра, подчинившую Церковь государству, а в советское время – и искус сергианства, приведший к альянсу Русской православной церкви (впоследствии – Московской патриархии) с советской властью и большевизмом.
Иными словами, религиозно-нравственный спор между Нилом Сорским и Иосифом Волоцким обозначил собой «перекресток» в истории древнерусской культуры, за которым последовал начавшийся в XVI в. распад синкретической «культуры-веры» на две взаимоисключающие ее версии, в дальнейшем развивавшиеся параллельно друг другу. «На заре своего бытия Древняя Русь предпочла путь святости пути культуры»8, – писал Г. Федотов. В начале XVI в. эти пути уже разошлись и далее расходились все больше. Когда же Россия, в результате Петровских реформ, вступила-таки на «путь культуры», со святостью в древнерусском смысле было уже покончено, и на первый план выступила «светская святость», связанная с сакрализацией личности русского монарха, а затем и деятеля отечественной культуры (поэта, писателя, – ср., например, культ Пушкина)9.
Нельзя сказать, что в этом споре сторонников преп. Иосифа и преп. Нила синкретичное ядро «культуры-веры» прямо раскололось на культуру и веру; для этого должно было пройти еще полтора века и должна была наступить эпоха барокко, представшая как «состязание идей». Однако в споре обозначились различные, а во многом и противоположные позиции в оценке и интерпретации «культуры-веры», в которых были по-разному расставлены акценты при сопоставлении обоих компонентов культурного целого: у Нила культура предстает как пронизанная верой; у Иосифа же вера опосредована культурой, выполняющей по отношению к вере вспомогательные функции. При этом и вера, и культура для обоих равно важны, но по-разному; кроме того, впервые ощущается у обоих возрастающее различие культуры и веры: первоначально – как мирского и священного, а затем – все более тонкое и в то же время универсальное (в рамках и повседневного, и сакрального опыта).
В результате столь отличных друг от друга установок – познавательных и аксиологических – почти каждое понятие эпохи – к каким бы предметам и практикам оно ни относилось, получает двоякую интерпретацию. Святость и греховность, моральность и порочность, духовность и опустошенность, терпимость и недопустимость, любовь и ненависть, красота и прелесть (то есть дьявольский соблазн) – вся система категорий средневековой русской культуры начинает «плыть»; пары понятий утрачивают свою безусловную антиномичность, а смысл самих категорий, до этого бесспорный и однозначный, начинает размываться и дробиться. Содержание категорий лишается своей вечности, неизменности и богодухновенности и начинает зависеть от контекста, в котором они рассматриваются, от позиции интерпретатора, от тех интеллектуальных процедур, которые он использует при обращении к тем или иным понятиям и концептам. По существу, мироустройство перестает быть догматически заданным и становится зависимым от его исследования – с тех или иных мировоззренческих позиций, в том или другом смысловом контексте.
Взять, к примеру, отношение к еретикам. Как известно, для Иосифа Волоцкого в это время главный враг православия – ересь жидовствующих, с которыми он полагает бороться всеми существующими способами (включая костер), причем в общегосударственном масштабе, централизованно (для чего святитель предлагал Ивану III учредить в Московском государстве институт инквизиции, уже давно функционировавший на Западе). По глубокому убеждению Иосифа, еретики неисправимы и не способны к раскаянию; это волки в овечьих шкурах, их присутствие в обществе опасно, потому что их учение заразительно, и единственный способ пресечения его распространения – полное уничтожение всех еретиков, которые «окаяннее бесов»10. По словам Бердяева, «он сторонник христианства жестокого, почти садического, властолюбивого, защитник розыска и казни еретиков, враг всякой свободы»11. Праведный гнев преп. Иосифа, твердо знающего, где пролегает граница между греховностью и святостью, вполне исторически объясним. Однако и греховность, и святость, в понимании Иосифа Волоцкого, несомненно сакральны: первая в негативном плане, вторая – в позитивном.
Тем временем преп. Нил, разбирая в своем «Уставе» (скитской жизни) «гневный помысл», обильно цитируя Св. Писание и учения отцов Церкви, отмечает: «…Всякий, кто хочет получить отпущение своих согрешений, прежде должен брату своему от сердца отпустить, ибо оставления долгов повелено просить нам у Господа так, как “и мы оставляем” (Мф. 6, 12); и если мы не оставим сами – ясно, что и нам не оставится. Подобает знать и то, что если и думаем о себе, будто нечто доброе делаем, от гнева же не удерживаемся, – это Богом не принимается»12. И далее: «Потому не подобает нам вовсе ни гневаться, ни причинять брату зло не только делом и словом, но и видом, ибо возможно и одним взором оскорбить брата своего, как сказано отцами. Но надо и помыслы гневные отметать от сердца – это-то и есть сердечное оставление»13.
Сказанное может быть отнесено и к тем, кого Иосиф Волоцкий трактует как еретиков, ожидающих неотвратимых суда и кары. Ссылаясь на пример самого Христа, отпустившего грехи иудеям, от которых много зла претерпел, Нил Сорский продолжал: «И все святые, этим путем шествуя, обрели благодать, ибо не только не воздавали зла оскорбившим, но и добро им творили, и молились о них, и покрывали недостатки их, радуясь их исправлению, и, когда те к осознанию своих зол приходили, – с любовью и милостью их наставляли»14. Иосиф не верил в раскаяние и исправление еретиков – религиозных диссидентов того времени; Нил же верил и укрывал, считая, что никто из смертных не обладает всей полнотой Истины и святости, а потому, будучи не «без греха», не имеет права первым «бросить камень» в согрешившего.
Н. Бердяев трактовал Нила как духовного антипода Иосифа: «Нил Сорский – сторонник более духовного, мистического понимания христианства, защитник свободы по понятиям того времени, он не связывал христианство с властью, был противник преследования и истязания еретиков. Нил Сорский – предшественник вольнолюбивого течения русской интеллигенции»15. Свобода же, в понимании Нила, состоит в предоставлении каждому человеку права выбора своего пути и способов нравственного самосовершенствования и личного спасения, а в масштабах целого общества – попущения плюрализма – не только личных судеб, но и воззрений; не только критериев святости и нравственности, но и разновидностей нормативного для христианина поведения.
Если Нил написал Устав для отшельнической жизни, предназначенный для руководства жизнью отдельных личностей, предающихся индивидуальному спасению, то Иосиф создал Устав монастырский, в котором речь идет о коллективном спасении, о нормативном поведении каждого члена монашеской общины без каких-либо исключений. Иосиф Волоцкий, несомненно, не только «главный обоснователь русского самодержавия»16, но и отечественного тоталитаризма. В Уставе же Нила предусмотрено множество отклонений от нормативных требований, учитывающих индивидуальную специфику спасающегося – его возраст, состояние здоровья, состояние духа, обстоятельства жизни и т.п. Наставление Нила чрезвычайно вариативно, дифференцированно, индивидуально, причем принятие основных решений отдано на откуп самих индивидов, ищущих спасения. Наставление же Иосифа – грозное, однозначное во всех своих интерпретациях и оценках, во всем безальтернативное.
Актуально до сих пор исторически значимое прение Нила и Иосифа, а также их последователей о взаимоотношениях Церкви и Государства, а также вытекающей отсюда проблеме «стяжания» или «нестяжания». Современная коммерциализация культуры то и дело возвращает нас к спорам «государственников» XVI в. и их оппонентов, сторонников духовной независимости Церкви и веры от официальной власти. Позиция Иосифа Волоцкого, ратующего за экономическую и финансовую поддержку Церкви Государством – в обмен на идеологическую и моральную поддержку политики властей со стороны Церкви, кажется сегодня главным оправданием коммерческой интерпретации культуры в XXI в., как, впрочем, и ее политизации (в пользу Государства). Однако не все так однозначно в этом вопросе.
Г. Федотов, имевший мало сочувствия к суровому учению преп. Иосифа, отмечал в его учении «чувство меры, приличия, своеобразной церковной эстетики», отличающие его так же, как и «твердость уставного быта». При этом, продолжал философ, «эстетика св. Иосифа имеет не созерцательный, а действенный характер. Он через внешнее идет к внутреннему, через тело и его дисциплину к дисциплине духа». «Идеал его – совершенное общежитие» и хоровое пение17. Развернутое изложение эстетических воззрений преп. Иосифа мы видим в его «Послании иконописцу»18. Здесь мы с удивлением встречаем предвосхищение некоторых семиотических идей (многие средства художественной выразительности трактуются Иосифом как символы, условные знаки святости и божественной благодати; так же трактуется использование в церковном обиходе золота и серебра, символизирующих нетленность церковных идеалов и ценностей). По существу, драгоценные металлы, как и церковные украшения, в интерпретации преп. Иосифа, десакрализованы, лишены строго религиозного, трансцендентного смысла, а в каком-то глубинном смысле и обмирщены. Напротив, преп. Нил воспринимает сребролюбие (даже в эстетическом смысле) буквально, как корысть, как поклонение «золотому тельцу», то есть влечения, исключающие религиозную духовность и подразумевающие соблазн.
Делая акцент на формы телесности и положение тела во время молитвы, опосредуя внутреннее внешним, дисциплину духа дисциплиной тела, св. Иосиф неслучайно отдает предпочтение не слову, а делу. Как подчеркивал Г. Федотов, утверждаемая Волоцким молитва – «это молитва не окрыленная, а толкующая, побеждающая волей и упорством. Место умной молитвы у Иосифа занимает келейное правило и противоположность церковных служб»19. Утонченная духовность превращается у святого в разновидность уставного быта и тем самым предельно материализуется и секуляризуется. Г. Федотов подчеркивал, что «идеал общежития», реализовавшийся в знаменитом Уставе, – фактически «не руководство к духовной жизни, а строгий распорядок монастырского быта»20. А за строгим распорядком монастыря как организованной общины у Волоцкого встает идеал социального и национального служения, еще один важный этап приобщения Церкви к мирской жизни.
Однако секуляризация духовных ценностей и обрядов у Иосифа Волоцкого не окончательна и поверхностна. Г. Федотов заметил, что «за этим бытовым укладом и эстетикой благолепия нельзя забывать основной корень Иосифова благочестия. Корень этот горек и даже страшен. Он объясняет нам его суровость перед лицом мира. В глубине его души живет религиозный ужас эсхатологии»21. По Иосифу, никто, даже святые мученики и великие отцы Церкви, по смерти не избегнут адских мук и бесовских мытарств. Тем более это относится к грешникам и еретикам.
Иной пафос у «нестяжателя» – преп. Нила. В своем тяготении к абсолютной аскезе и духовному ригоризму он выступает как противник эстетики вообще, трактуя любой эстетизм, включая церковное благолепие, как избыточность, граничащую с греховной прелестностью, то есть как сакральное с негативным значением, дьявольский соблазн. Борясь со сребролюбием как «душетленной страстью», Нил идет дальше и отвергает любое украшательство и вещелюбие: «Не только же золота, серебра и имущества подобает нам избегать, но и всех вещей сверх жизненной потребности: и в одежде, и в обуви, и в обустройстве келий, и в сосудах, и во всяких орудиях; и все это немногоценное и неукрашенное, легко приобретаемое и к суете не побуждающее подобает нам иметь, – да не впадем из-за того в мирские сети. Истинное же удаление от сребролюбия и вещелюбия – не только не иметь имуществ, но и не желать их приобретать. Это нас к душевной чистоте направляет»22. При этом преп. Нил не допускает, что чаемая им «духовная чистота» может обернуться во многих случаях и «духовной пустотой», господством бессодержательных структур. Устраняя символические значения и смыслы вещей, фактически десакрализуя их, Нил Сорский отнюдь не склонялся к секуляризации окружающего мира, но проводил четкую границу между священным и мирским, отчуждая мирское как дьявольский соблазн для верующего.
Бердяев видел в расхождении иосифлян и нестяжателей почти по всем вопросам духовной и материальной жизни кризисное проявление «двойственности русского мессианского сознания», приведшее «к его главному срыву»23. Федотов усматривал в «раздвоении древнего феодосиевского благочестия» огромное несчастье, которое заключалось не в борьбе между двумя направлениями, а «в полноте победы одного из них (иосифлянства. – И. К.), в полном подавлении другого (нестяжательства. – И. К.)»24. Все это важно для истории русской культуры. По существу, уже в начале XVI в. в русской культуре начались драматические дивергентные процессы, изнутри разлагавшие российскую действительность на неразрешимые антиномии.
Но важно также видеть в произошедшем на рубеже XV–XVI вв. расщеплении «ядра» древнерусской культуры истоки культурологической рефлексии, не сводимой к провиденциализму; начало понимания сложности и неоднозначности любых культурных явлений – по ту и по эту сторону культа, понимание и оценка которых зависят от множества исторических и человеческих факторов, требующих своего специального изучения и глубокого осмысления. Именно с этого времени мы начинаем отсчет истории русской культурологической (предкультурологической) мысли и отечественного секулярного знания вообще.
«Образы без лиц»: древнерусские жития как художественная литература
Академика В. О. Ключевского, выходца из духовной среды, семинариста по первому своему образованию, с первого курса университета волновал вопрос о том, как соединить религию и науку или – шире – высокую духовность, не мыслимую им вне религиозных начал, и исторические знания, основанные на позитивных основаниях – конкретных эмпирических фактах, источниках, в той или иной мере проверяемых и верифицируемых с помощью научных процедур. Следует сразу добавить, что этот вопрос – в той или иной степени – продолжал занимать Ключевского почти до конца его дней, хотя звучал он уже не так остро, как во времена юности.
Поэтому интерес к теме магистерской диссертации, предложенной учителем Ключевского, профессором С. М. Соловьевым, – «Древнерусские жития святых как исторический источник» – у молодого кандидата университета был неслучаен25. В этой теме закономерно встретились тема богословская (феномен святости; древнерусские святые, канонизированные Православной Церковью; их жития, относящиеся к церковному Преданию) и тема собственно историческая (рукописи XIII–XVII вв. как исторический источник в научном исследовании Древней Руси; проверка, аналитическое рассмотрение и оценка этих источников как мало известного исторической науке эмпирического материала; сравнительное сопоставление их данных).
Тем увлекательнее казалось молодому историку понять, в какой мере и как сакрализованные тексты русской агиографии могут быть использованы исторической наукой для своих, вполне секулярных целей. Не менее важной проблемой была и философско-историческая концепция, дискутировавшаяся в это время в академических кругах: как взаимодействуют между собой в истории силы трансцендентные (например, Божественный Промысел; святость избранников нации, эпохи; их пророчества и свершения; провиденциальность их поступков и деятельности в целом) и силы земные, социальные, психологические, житейские (продиктованные свободной волей людей и их повседневной практикой, политическими соображениями и исторической конъюнктурой, экономическими интересами, идейными конфликтами, стечением различных исторических обстоятельств, наконец, чисто случайными факторами и т. п.). Формулируемая таким образом дилемма носила уже теоретико-методологический и философский характер.
Выбранная тема, что называется, носилась в воздухе. На древнерусские жития как на исторический источник, потенциально содержащий в себе, казалось, очень редкую и ценную информацию по изучению древнейшей истории Руси, возлагались большие надежды, подкрепленные, как правило, лишь поверхностным знакомством с рукописями, привезенными из Соловков. Стоит сразу же заметить, что большинству надежд ученых на содержащуюся в житиях научную информацию было не суждено оправдаться, и прийти к соответствующим выводам довелось именно Ключевскому – в ходе проведенного им шестилетнего исследования.
Характерно, что житийный материал и в дальнейшем продолжал волновать Ключевского – уже маститого профессора. Несколько специальных лекций в курсе Ключевского «Источники русской истории» (1891) посвящено житиям как историческим источникам. К этой же проблематике относятся и известные речи Ключевского – «Добрые люди Древней Руси», произнесенная в пользу пострадавших от неурожая в Поволжье (впервые опубликована в «Богословском Вестнике», Сергиев Посад, 1892, № I) и «Значение преподобного Сергия для русского народа и государства», произнесенная на торжественном собрании Московской духовной академии 26 сентября 1892 г. в связи с 500-летием кончины преподобного и опубликованная впервые в том же «Богословском вестнике» (Сергиев Посад, 1892. № XI).
Работа Ключевского над древнерусскими житиями как историческим источником была важна не только в качестве исторического и источниковедческого исследования; она обозначила собой формирование оригинальной философско-исторической концепции Ключевского. Именно осмысление житийного материала послужило для Ключевского «первотолчком» в становлении его оригинальной философии истории.
И в самом деле, за очевидными историографическими задачами исследования древнерусских житий стояли и собственно философские проблемы (в том числе религиозно-философские), более всего имевшие отношение к философии истории – прямо или косвенно – и глубоко занимавшие молодого историка. Несомненно, здесь же находили свое научное разрешение мировоззренческие коллизии, связанные с ролью православия в истории и культуре России, также принципиальные для Ключевского. Наконец, жития святых представляли собой важнейший жанр древнерусской литературы, к высоким образцам которой относились широко известные жития Бориса и Глеба, Феодосия Печерского, Александра Невского, Стефана Пермского, Сергия Радонежского, Петра и Февронии и другие произведения, принадлежавшие перу Нестора, Епифания Премудрого, Ермолая-Еразма и других писателей Древней Руси и обладавшие весьма своеобразной художественно-эстетической ценностью.
Одной из таких проблем была проблема сочетания (или различения) «святости» и «человечности» в личности и деятельности древнерусских святых. Святые были, с одной стороны, реальными людьми, представителями той или иной конкретно-исторической эпохи с присущими ей типовыми чертами – ментальными, культурными, характерологическими, бытовыми, психологическими, экономическими, социально-политическими и т.д. В этом отношении они были неотделимы от большинства своих современников, также являвшихся представителями той же исторической эпохи со всеми присущими ей атрибутами жизни и культуры. С другой – эти же самые святые были исключением из общих правил, и исключительность эта проявлялась не только в чудесах, свершающихся при жизни или посмертно, не только в праведном и аскетическом образе жизни, «умном делании» и т.п., но и в особом мировоззрении, делавшем их «неотмирными» существами, изначально принадлежащими вечности, а не современности. Святые в глазах современников и потомков представляли собой воплощенный идеал человека (для своего времени) и являлись эталонными феноменами сакрального в культуре Древней Руси.
Своей деятельностью, своим возвышением над историческими обстоятельствами, над бытом, над политикой и экономикой, над большинством своих современников святые являли собой нечто исторически экстраординарное, феноменологически исключительное. Официальная или неофициальная канонизация святых навечно устанавливала (в глазах верующих и в церковном Предании) окончательную смысловую грань (или связь) между избранниками Божьими, чудотворцами и пророками, с одной стороны, и обычными мирянами, погрязшими в грешной и суетной повседневности, – с другой. Смысловая граница между святым и человеком в одном лице делала личность и деятельность святого расщепленными на мирское и «неотмирное», плотское и духовное, временное и вечное; соединить ученому эти грани рациональным образом было трудно. Напротив, смысловая связь, устанавливаемая между «святостью» и «человечностью» в одном и том же лице, делала его природу такой же двойственной, мерцающей, как, например, богочеловеческая природа Христа.
Принадлежа одновременно к двум мирам – обыденному, секулярному, и сверхъестественному, трансцендентному, сакральному, – святые Древней Руси представляли собой во многом неразрешимо противоречивое явление, а значит, сложную познавательную проблему для философского и научного познания. В одном плане – как феномен религиозной веры – явление святости было непознаваемым и необъяснимым, а потому лежало вне сферы компетенции науки и рационального познания вообще; в этом отношении оно относилось к компетенции веры и могло стать предметом богословия и церковной истории26. В другом же плане святые как реальные люди и исторические деятели принадлежали секулярной истории как ее составные элементы и действующие лица, и в этом качестве они были неподвластны богословию и вере, поскольку относились к вeдению светской науки с ее методами, понятийным аппаратом и неизбежными критицизмом и скептицизмом.
Изучение житий как текстов церковной и секулярной истории также представляло собой трудно разрешимую проблему. Как канонические жизнеописания святых, их подвигов во имя веры и свершаемых чудес, жития являлись сакральными текстами и принадлежали Священному Преданию и церковной истории. Как жизнеописания реальных людей, живших и действовавших в определенную историческую эпоху, взаимодействовавших с другими историческими лицами, реально существовавшими и оставившими свой след в истории – политический или военный, религиозный или культурный, – жития святых представляли собой исторический источник в ряду иных источников – летописей, деловых документов, переписки и т. п. Невозможно было игнорировать ту или иную сторону двойственного содержания житий и при этом не модернизировать или не архаизировать целое, то есть, по существу, не искажать тем или иным образом его смысл.
В то же время изучение житий в том или ином ключе (богословском, историческом или филологическом) могло иметь непредсказуемые последствия. Если бы в результате источниковедческого анализа оказалось, что жизнеописание святого вымышлено, это могло бы означать, что соответствующего реального человека никогда не существовало, и доказательство этого факта могло бы означать подрыв веры в Предание. Если бы жизнеописание подтвердилось с точки зрения соответствия историческим фактам, то оно могло лишиться сакральной значимости и, прекратив быть житием, перестало бы являться принадлежностью Предания и церковной истории, то есть стало бы обычным секулярным текстом. Соответственно, чисто богословский взгляд на сакральные тексты в принципе исключал возможность рассматривать жития как исторический источник, а значит, верифицировать сведения, излагаемые в житиях, что могло бы дать шанс секулярной науке интерпретировать жития как художественный или конфессиональный вымысел, не укорененный в исторической реальности. Филологический анализ мог бы лишь подтвердить характер литературного канона: тематику, систему образов и сюжетов, композицию и жанровые особенности текста, типологические и стилевые характеристики текста, соответствующие определенной культурной эпохе.
Взявшись за изучение текстов древнерусских житий, Ключевский вступал на взрывоопасное поле, полное непредсказуемости как в научно-историческом, так и в философско-историческом отношении. Но Ключевский был полон решимости и волевой целеустремленности – как исследователь эксклюзивного и инновативного материала, который до него практически не был предметом философско-исторической, да и просто конкретно-исторической рефлексии, – осмыслить с позиций ученого жития святых именно как исторический источник, а не как текст церковного Предания.
Результаты анализа Ключевского превзошли все ожидания. Ученый пришел к неутешительному выводу, что древнерусские жития не могут быть использованы наукой как исторический источник. Прежде всего, жития неразлучны с «искусственной формой». «Внешние черты этой искусственности вышли из взгляда на житие как на церковное поучение; они состояли в тех общих местах, которые в виде предисловия и похвалы начинали или заканчивали собой биографический рассказ или в виде ораторских отступлений переплетали этот рассказ нравственно-назидательными толкованиями излагаемых событий» (352)27. К тому же «эти общие места древнерусская агиобиография усвояла по чужим образцам» (352).
Впрочем, «общие места житий не ограничиваются назидательными отступлениями: они открываются там, где при первом взгляде могут показаться биографические факты. Типический образ святого, как он рисуется в житиях, слишком известен, чтобы воспроизводить его здесь во всей полноте. В нем рядом с чертами индивидуальными, имеющими значение действительных фактов, легко заметить черты общие, однообразно повторяющиеся едва ли не в каждом житии. Одни из них «настолько широки, что не характеризуют жизни одного лица и, разумеясь сами собою, не дают ничего нового для его биографии» (353). «Другие черты, не столь широкие по объему, имеют условное значение: это биографические гипотезы, необходимые для полноты картины». «Есть, наконец, третий элемент, входящий в характеристику искусственного стиля житий: это известный выбор биографического содержания. Как бы ни было житие богато живыми подробностями, оно не может удовлетворить историка. Биограф освещал описываемую жизнь только с некоторых и во всех житиях все с одних и тех же сторон, оставляя в тени другие, для исследователя самые важные. Отсюда происходит однообразие впечатления, выносимого из чтения житий, различных по литературной обработке и по качеству биографического материала» (354).
Шесть лет, проведенных Ключевским над чтением житий, прибывших в Казанскую духовную академию из Соловков, убедили молодого историка, работавшего над магистерской диссертацией, в том, что «житие и историческое повествование различно относятся к предмету и второе не может брать явление в том виде, в каком дает их первое». «Все условия, влиявшие на литературу житий, клали в основу жития церковно-моралистический взгляд на людей и их деяния» (355). Далее, «мир, из которого он брал необходимые для такого обобщения образы, не был родной ему по происхождению: это было восточное пустынничество, идеальную догму которого он находил в творениях отцов Церкви об иночестве, а практическое осуществление – в патериках и житиях древних христианских пустынников. Понятно равнодушие, с каким биограф относился к биографическому факту в его действительной простоте» (356).
«Такое отношение к факту сообщало биографическому содержанию житий отвлеченность, которая делает его неуловимым для простого повествования: дорожа лишь той стороной явлений, которая обращена к идеалу, биограф забывал о подробностях обстановки, места и времени, без чего для историка не существует исторического факта» (357). Иными словами, житие, воспроизводившее идеал биографа и его времени, совершенно игнорировало историческую действительность, из которой сознательно и целеустремленно «вырывала» своих «героев». «Эта точка зрения определила и отношение биографа к русской исторической действительности. Он искал в последней отражение другого, хорошо знакомого ему мира и ценил ее настолько, насколько она отражала этот мир» (357). Во многих случаях подобная установка агиографа приводила к искусственной подмене реальности – идеалом, правды – вымыслом. По сути, историку, обратившемуся к изучению житий, приходилось иметь дело с «мифологизированной» действительностью и, в известном смысле, с художественным текстом. В конечном счете житиям «должное» в истории было дороже, чем «сущее».
Мир житий и историческое повествование смотрели на реальность как бы с разных сторон; по-разному ее интерпретировали и оценивали. «Легко понять, – писал Ключевский, завершая свой анализ, – что житие и историческая биография смотрят на лицо прямо с противоположных сторон. В судьбе лица нас занимает более всего борьба вечно борющихся исторических стихий, личности и среды, ее окружающей; взаимное отношение той и другой стороны служит лучшей характеристикой обеих. Степень нашего интереса к жизни лица определяется тем, в какой мере развивало оно среди этой борьбы свою внутреннюю силу и самобытность и насколько стало выше окружающих условий, общего уровня» (358). Фактически здесь Ключевский излагает некоторые контуры своей философско-исторической концепции, явно несовместимой со взглядом на святость агиографа.
«Совсем иная точка зрения в житии. Среда, из которой выходил святой, рассматривается в нем только как внешняя помеха, ничего не дающая лицу и настолько слабая, что святой прямо из колыбели становился выше ее и уже в детстве учил родителей правильному пониманию задачи жизни» (358). «Те многоразличные сочетания личных и общественных условий, которые производят такое бесконечное разнообразие характеров и которые привязывают внимание наблюдателя к судьбам людей живущих и отживших, не имели никакой цены в глазах биографа; да едва ли и жизнь, из которой он брал явления, давала обильный материал для такого наблюдения. <…> Для жития дорога не живая цельность характера с его индивидуальными особенностями и житейской обстановкой, а лишь та сторона его, которая подходит под известную норму, отражает на себе известный идеал. Собственно говоря, оно не изображает жизнь отдельного человека, а развивает на судьбах его этот отвлеченный идеал. Вот почему все лица, жизнь которых описана в житиях, сливаются перед читателем в один образ, и трудно подметить в них особенности каждого, как по иконописным изображениям воспроизвести портреты: те и другие изображения дают лишь “образы без лиц”» (359).
В конце концов выясняется, что «из всех частей жития описание посмертных чудес святого наиболее надежно по своим источникам» (360). Однако зачем историку были нужны эти описания и эти источники? Ведь они фиксировали подтверждение событий и фактов, не имевших значения и смысла для понимания исторического процесса, но лишь затемнявших понимание хода истории. Для формирования собственной философии истории Ключевского подобные выводы были особенно поучительны. Ведь в процессе анализа житий историк особенно наглядно представлял, чем отличается субъективный смысл истории от объективного, как происходит на практике исторического повествования стереотипизация исторических фактов, событий и лиц, какой отпечаток на изложение исторического процесса накладывает литературный стиль и жанровый канон; как действуют исторические «ножницы», отделяющие наблюдателя давно прошедших событий от их исследователя; в чем заключается различие между историей, увиденной и описанной богословом, и научной историей, рождающейся под пером историка-профессионала.
Более всего жития древнерусских святых подходили под определение литературно-художественного текста, сакрального – с религиозной точки зрения и секулярного – с научной точки зрения, то есть семантически многозначного, стилистически пестрого, подлежащего различным интерпретациям и оценкам современниками и потомками.
Подводя некоторый итог своим многолетним занятиям сакральными текстами с секулярной точки зрения, В. Ключевский размышлял на рубеже XIX–XX вв. (текст датируется условно как написанный до 13 марта 1899 г.): «Религиозная жизнь идет своим путем, богословская наука – своим, и если они разойдутся, худо будет науке, а не жизни. У богословской науки могут быть два исхода: или она своими ухищрениями поддержит существующий церковный порядок – тогда верующие, недовольные этим порядком, уйдут из Церкви. Или наука, подготовляя реформу существующего церковного порядка по своим школьным идеалам, не угадает потребностей религиозной жизни: тогда мы все равно уйдем из Церкви. Ученый не заменит нам апостола. Возможен и третий исход: богослов угадает потребности верующего и скажет ему то, чего он желает. Это – худший исход для богослова: он покажет тогда свою ненужность»28.
Написано это для самого себя, без расчета на публикацию, но свидетельство это тем более ценно. Фактически Ключевский, бывший семинарист, профессор духовной академии, верующий христианин, подписывает приговор богословской науке, как и всем церковным наукам. У науки нет ни малейшего шанса помочь верующим – поверить, а Церкви – удержать в своем лоне верующих. И если наука не угадает потребности верующих, и если угадает, и если поддержит существующий церковный порядок. В любом случае либо верующие уйдут из Церкви, либо – отринут богословов. Наука и жизнь окончательно разошлись, и между ними нет точек соприкосновения. Даже в церковно-религиозной практике.
Зато литературный текст может (и даже должен) стать предметом как сакрального, так и секулярного осмысления. Именно так воспринимались жития святых В. Ключевским и всеми учеными и философами, которые шли за ним, развивая его идеи.
Так, новый этап обращения к житиям святых как источнику научного знания открыл Г. П. Федотов целым рядом своих культурфилософских работ, центральное место среди которых занимает книга «Святые Древней Руси» и примыкающее к ней исследование жизни и деятельности св. Филиппа (Колычева), митрополита Московского. Однако исследования Г. Федотова не были чисто историческими; они носили отчасти историософский характер, а отчасти – культурологический (культурфилософский). Предметом обеих книг Г. Федотова был феномен святости, понимаемый как одна из важнейших культурных ценностей в русской и мировой истории культуры, а на одном из важных этапов – в эпоху Средневековья – и главная, единственная в своем роде.
В процессе перехода к Новому времени, когда наступает секуляризация культуры, категория святости переживает кризис («ноль святости» в последнюю четверть XVII в., как подчеркивает Г.?Федотов, подготавливает петровские реформы со всеми вытекающими культурно-историческими последствиями). Исследуя историю древнерусской святости как культурно-исторический процесс, русский философ открывает новые возможности научного использования и интерпретации житийной литературы – как источников отечественной культурной истории. В этом качестве они не нуждаются в какой-либо верификации. Сакральные ценности, будучи включены в секулярный контекст, не утрачивают своих «предельных» качеств, но даже выигрывают от смыслового контраста.
Русская революция: секулярное как сакральное
Мысль о том, что любая революция (в том числе и русская, причем русская – в особенности), что любая революционность как таковая с необходимостью являются феноменами сакральными, неоднократно высказывалась русскими мыслителями Серебряного века. Сегодня, мы многократно убеждаемся в справедливости этих суждений – не только в том отношении, что вполне секулярные революционные процессы питались религиозной энергией или их участники использовали формально «религиозный язык»29, но и в том, что сама революция, рассматриваемая как феномен культуры, по своему генезису и сущности подобна религии и апеллирует к сакральным ценностям и трансцендентности. Тем более актуальным оказывается сегодня обращение к первым попыткам серьезного обоснования и решения этой – не столько религиоведческой, сколько культурологической – проблемы.
Одним из первых к этой проблеме подошел С. Н. Булгаков (после 1918 г. – о. Сергий), во многом еще по-настоящему не оцененный до сих пор русский религиозный философ, значение которого для культурологии в современном ее понимании не меньше, чем для религиозной философии. И дело здесь обстоит не только в том, что, прочитывая работы С. Булгакова культурологически, мы трактуем содержащуюся в них проблематику секулярно и секуляризованно (что само по себе правомерно, ибо свидетельствует об универсальном и всеобщем значении названных проблем, с какой бы точки зрения на них ни взглянуть), но еще и в том, что сама культура, в своем ценностно-смысловом содержании этимологически восходящая к слову «культ», обнаруживает в себе сакральные и духовные первоосновы и, далее, свое трансцендентальное смысловое ядро.
Будучи сам причастен к увлечениям марксизмом, как и многие иные представители русской интеллигенции конца XIX в., С. Булгаков, обращаясь к осмыслению основоположника новомодного радикального учения – К. Маркса, впервые поставил вопрос о религиозности Маркса (а вместе с ним и его учения). Постановка проблемы, несомненно, казалась парадоксальной даже для бывших легальных русских марксистов, довольно быстро отвернувшихся от аксиом ортодоксального социалистического учения ради богоискательства и развития религиозной философии в русле национальных традиций русской культуры и общественной мысли. Ведь все они хорошо помнили об отношении к религии не только зрелого, но и гораздо более либерального молодого Маркса, младогегельянца и фейербахианца, который в своем религиозном радикализме сформулировал атеистические положения, ставшие затем главными лозунгами советского воинствующего безбожия 20-х гг.: «Религия – опиум народа»; это «фальшивые цветы», украшающие цепи угнетения и рабства; это «иллюзорное солнце», движущееся вокруг человека, пока он не начал двигаться вокруг самого себя30.
В статье «Карл Маркс как религиозный тип» С. Булгаков оправдывал такую постановку вопроса тем, что в этом случае религия должна пониматься более широко, нежели ее трактует обыденное сознание, позитивные науки или даже богословие. «По моему убеждению, определяющей силой в духовной жизни человека является его религия – не только в узком, но и в широком смысле слова, то есть те высшие и последние ценности, которые признает человек над собою и выше себя, и то практическое отношение, в которое он становится к этим ценностям. <…> В указанном смысле, – продолжал мыслитель, – можно говорить о религии у всякого человека, одинаково и у религиозного, и у сознательно отрицающего всякую определенную форму религиозности»31.
С. Булгаков в этой связи вспоминает об увлечении К. Маркса Л. Фейербахом и его фейербахианстве, выразившемся в «отрицании религии богочеловечества во имя религии человекобожия» (61). Впрочем, и в этом случае социализм мог бы предстать как соединение сил «для созидания Царства Божия» (69); социалистическое движение «может быть воодушевляемо высоким, чисто религиозным энтузиазмом, поскольку социализм ищет осуществления правды, справедливости и любви в общественных отношениях»; сама борьба против эксплуатации человека человеком, против угнетения и бесправия религиозна по своей природе, поскольку «негодование против зла есть, конечно, высокое и даже святое чувство, без которого не может обойтись живой человек и общественный деятель» (68). Однако в Марксовом учении не происходит ничего подобного: в нем преобладают чувства «иного, не столь высокого порядка: классовой ненависти, эгоизма, той же самой буржуазности – только навыворот», и «святое чувство превращается в совсем не святое» (68–69).
Дальнейший анализ, проведенный С. Булгаковым, показал, что и личность К. Маркса, и характер его учения, и сущность социалистического движения имели самое непосредственное отношение к религии и несли в себе дух антирелигиозной, богоборческой стихии. «Вся доктрина Маркса, как она вытекала из основного его религиозного мотива – из его воинствующего атеизма: и экономический материализм, и проповедь классовой вражды <…>, и отрицание общечеловеческих ценностей и общеобязательных норм за пределами классового интереса, наконец, учение о непроходимой пропасти, разделяющей два мира – облеченный высшей миссией пролетариат и “общую реакционную массу” его угнетателей, – все эти учения могли действовать, конечно, только в том направлении, чтоб <…> сделать <…> слышнее ноты классовой ненависти, чем ноты всечеловеческой любви» (69). Таким образом, С. Булгаков различает в Марксе «наряду с Господней работой энергию совсем иного порядка, зловещую и опасную» (69–70), причем именно эта другая религия оказывается преобладающей, господствующей в марксизме, – «как раз эта темная, теневая сторона Марксова духа» (70).
Самый «тонкий и опасный соблазн» марксизма как новой религии, по мнению С. Булгакова, заключался в том, что Маркс «хотел сделать это движение (социалистическое. – И.?К.) средством для разрушения святыни в человеке и поставления на место ее самого себя (то есть не человека вообще и не каждого конкретного человека, а самого Маркса! – И.?К.) и этой целью руководствовался в своей деятельности» (70). Эта последняя тенденция социалистической религии, заключающаяся в подмене человекобожия – самообожением вождей социализма, возникновением «культа личности» того или иного всеобщего или «местночтимого» вождя, впоследствии нашла яркое развитие и подтверждение в практике социалистического строительства ХХ в. – как в России, так и в других странах Востока и Запада. Ленинизм и сталинизм, гитлеризм и итальянский фашизм, маоизм и чучхе, режимы личной власти Э. Ходжа и Н. Чаушеску, Пол Пота и Ф. Кастро – все эти образования тоталитарного строя и варианты социалистической (или национал-социалистической) идеологии были запрограммированы – прямо или косвенно – социалистической доктриной К. Маркса. А впервые религиоподобные тенденции марксизма и идущих под его лозунгами революционеров усмотрел в нем русский религиозный философ С. Булгаков.
Впрочем, представления о религиозном характере внерелигиозных и даже антирелигиозных явлений (например, атеизма) складывались в русской философской и общественной мысли гораздо раньше, чем у С. Булгакова. Так, следует отметить целый ряд аналогичных идей, высказывавшихся русским неокантианцем проф. А. И. Введенским32. Излюбленная тема А. Введенского – сопоставление веры и знания, религии и атеизма, уверенности и сомнения. Отталкиваясь от субъекта познания и переживания, Введенский вслед за Кантом готов признать Бога «вещью в себе»; его существование и деятельность равно невозможно ни доказать, ни опровергнуть, хотя любые системы аргументации имеют право на существование и могут быть сравнимы с точки зрения убедительности, логичности, степени сложности и изощренности, с точки зрения психологии личности, нравственности, эстетики. Практически во всех отношениях вера в Бога как мировоззренческая система оказывается совершеннее, психологически достовернее, философски, нравственно и эстетически богаче. После знакомства с трудом американского психолога и философа У. Джемса «Многообразие религиозного опыта» (1902, рус. пер. 1910) А. Введенский ссылается на непосредственное, интуитивное ощущение Бога многими людьми как на чисто антропологическую предпосылку любой веры, особенно религиозной.
И религия, и атеизм, как это доказывает Введенский в статье «О?видах веры в ее отношениях к знанию» (1893), строятся на системе догматов, доказательство или опровержение которых может быть осуществлено лишь при помощи априорных идей. Какое бы из противоположных положений в системе доказательств мы ни предпочли (утверждение или отрицание), «и в том и в другом случае мы будем веровать, а не знать. Атеист тоже всего лишь верует, а не знает. Но только его вера имеет отрицательный характер сравнительно с верой тех, кто верует в Бога; он верует в небытие Бога» (168). Как и любая другая вера, атеизм может принадлежать трем возможным разновидностям веры: «1) наивная, 2) слепая и 3) допущенная критическим рассудком (которая обнимает и суетную, и сознательную)» (186).
Давая дефиницию веры как таковой, Введенский писал: «Что такое вера? Уверенность, исключающая состояние сомнения. Состояние, психологически (а не логически) противоположное вере, есть не неверие (оно тоже составляет уверенность в ошибочности какой-либо веры), а сомнение; вера есть состояние, исключающее сомнение. Но эта уверенность не совпадает со знанием, так что мы можем охарактеризовать веру, как состояние, исключающее сомнение иначе, чем это делается при знании» (186). Многое здесь определяется фактическими отношениями интуитивного мышления к дискурсивному и способом их метафизического истолкования.
По наблюдениям Введенского, результаты извечного (2,5-тысячелетнего) противоборства религии и атеизма (как двух противоположных форм веры) асимметричны: активизация религиозной веры при пассивности атеизма приводит к нарастанию «религиозного равнодушия»; когда же «атеизм начинает усиленно бороться против веры в Бога, так он сам же своим шумом привлекает всеобщее внимание и интерес к вопросу о существовании Бога» (207). Выводы эти у Введенского аргументировались всей историей мировой культуры, начиная с софистов, но более всего апеллировали, естественно, к недавней истории русской культуры XIX в. Установление после Октября советской власти в России дало философу новые поучительные примеры взаимодействия религиозной веры и атеизма в русской культуре как своего рода межконфессионального диалога.
Более того, Введенский пришел к заключению, что мощная, целенаправленная атеистическая пропаганда в масштабах всего государства, прежде всего в ее воинственных формах, не просто способствует «повышению интереса среди широких слоев населения к вопросам религии и морали» (как об этом свидетельствовал тогдашний ректор Коммунистического университета в Петрограде с 1921 г. С. Канатчиков), но и ведет к самоуглублению человеческих переживаний и мировоззрения, способствует переходу людей из «религиозного равнодушия» к состоянию «интуитивно-верующих» (208). Это означало, по убеждению А. Введенского, что в конечном счете в культурно-исторической борьбе побеждает всегда религия, в то время как атеизм способен лишь ослабить или нейтрализовать ее влияние. Иными словами, религия как позитивная вера (вера в существование Бога) оказывается феноменологически сильнее атеизма как веры отрицательной (веры в небытие Бога), что обусловлено прежде всего тем, что в религиозном мировоззрении заключена сильная и глубокая саморефлексия культуры, в то время как атеистическая «вера» поверхностна, подчас проста до примитивности («…этот арсенал, – пишет А. Введенский, – как мы видели, совсем убогий, годный только для того, чтобы временно оглушить и ошеломить своих противников, но отнюдь не для того, чтобы разбить их наголову». – 207).
В духе идей А. Введенского рассуждал об атеизме и С. Булгаков в сборнике «Вехи». «…Известно, что нет интеллигенции более атеистической, чем русская. Атеизм есть общая вера, в которую крещаются вступающие в лоно Церкви интеллигентски-гуманистической, и не только из образованного класса, но и из народа. <…> И вместе с тем приходится признать, что русский атеизм отнюдь не является сознательным отрицанием. Не есть плод сложной, мучительной и продолжительной работы ума, сердца и воли, итог личной жизни. Нет, он берется чаще всего на веру и сохраняет эти черты наивной религиозной веры, только наизнанку, и это не изменяется вследствие того, что он принимает воинствующие, догматические, наукообразные формы. Эта вера берет в основу ряд некритических, непроверенных и в своей догматической форме, конечно, неправильных утверждений, именно, что наука компетентна окончательно разрешить и вопросы религии и притом разрешает их в отрицательном смысле; к этому присоединяется еще подозрительное отношение к философии, особенно метафизике, тоже заранее отвергнутой и осужденной»33.
Обратим внимание на объяснительные моменты булгаковской концепции атеизма: причиной религиозного характера русского атеизма было догматическое, некритическое восприятие и понимание готовых данных науки, взятых по преимуществу в их отрицательном смысле (а не позитивном, как можно было бы предположить, имея в виду увлечение русской интеллигенции начиная с 1860-х гг. позитивизмом – естественнонаучным и философским). Акцент на отрицательный характер как знания, так и веры у русской интеллигенции диктовался, во-первых, ее резким социальным критицизмом, впервые оформившимся как жесткая идеологема уже у В. Белинского, а в дальнейшем лишь усугублялся (от Чернышевского с Добролюбовым до Ткачева и Нечаева); во-вторых, расцветом «нигилизма» как последовательно контркультурного идейного течения, отвергающего любые официально признанные нормы, ценности, принципы, авторитеты, традиции – уже потому, что это идеология, поддерживающая в российском обществе социокультурный statusquo, а не подрывающая его (как следовало бы, в духе бескомпромиссного отрицания); в-третьих, апологией борьбы – социально-политической, идейной, литературной и т. п. – против всего проправительственного, устоявшегося, «старого», рутинного, одиозного и т. п.
В целом же все перечисленные атрибуты составляют характерные признаки русского радикализма, стремящегося к быстрому, безоглядно-решительному и коренному разрешению всех назревших проблем, так сказать, «одним ударом». Отсюда и воинствующий характер русского атеизма, и его неосознанность, невыстраданность, а значит, поверхностность суждений, и его сущностная вненаучность (догматизм, непроверенность, предубежденность, наивность и т. п.), которую заменяет внешнее наукообразие и вероподобие, и стремление вывернуть «наизнанку» общепринятую идеологию, религию, философию, искусство, то есть представить сакрально-«положительное» (с точки зрения власти и ее идеологов) как отрицательное, а сакрально-«отрицательное» (с точки зрения официоза) – как положительное. С. Булгаков далее говорит о таких свойствах русского интеллигентского атеизма, как «религиозное легкомыслие» и соответствующее религиозное «невежество», отсутствие «сознательного религиозного самоопределения», нетворческий характер заимствования атеистических идей с Запада и их абсолютизация, апологетика, догматизация (36).
По существу, речь идет об инверсии сакрального и секулярного, подхлестнутой революционным радикализмом: сакральное секуляризуется, а секулярное сакрализуется; «сакрально-позитивное» вытесняется «сакрально-негативным» и наоборот. Светская обезбоженная религия подменяет собой религиозный культ и дискредитирует Церковь, возвеличивая секулярное государство, и сакрализует личности политических вождей, наделяя их «мирской святостью».
Особо подчеркивает С. Булгаков селективный характер идеологических заимствований у русской радикально настроенной интеллигенции. Атеизм становится «первым символом веры нашего “западничества”», начиная с Белинского, при этом он принимается как «последнее слово западной цивилизации» (36). Каждый раз русскими мыслителями радикального толка выбирается самое крайнее учение или идейное течение среди ряда других явлений западноевропейской мысли: сначала вольтерьянство и материализм французских энциклопедистов, затем атеистический социализм, фурьеризм и сенсимонизм, фейербаховский гуманизм, материализм 60-х гг., позитивизм, наконец, экономический материализм Маркса и критицизм неопозитивистского уклона. С. Булгаков подмечает, что вместо реального плюрализма западных идей русская интеллигенция выбирала лишь одну, крайнюю ветвь (как «самую подлинную европейскую цивилизацию»), а все остальные огульно отвергала или игнорировала.
Возражая этой исторической тенденции, укоренившейся в сознании русской интеллигенции и в самой истории отечественной культуры XIX в., С. Булгаков писал: «Но европейская цивилизация имеет не только разнообразные плоды и многочисленные ветви, но и корни. Питающие дерево и, до известной степени, обезвреживающие своими здоровыми соками многие ядовитые плоды. Поэтому даже и отрицательные учения на своей родине, в ряду других могучих духовных течений, им противоборствующих, имеют совершенно другое психологическое и историческое значение, нежели когда они появляются в культурной пустыне и притязают быть единственными, становятся фундаментом русского просвещения и цивилизации. <…> На таком фундаменте не была построена еще ни одна культура» (37). Речь, таким образом, шла не только о «трансплантации» избранных идей и концептов на почве русской культуры, но и о тенденциозном «вырывании» из принципиально плюралистического идейного контекста и монополизации, гиперболизации только этих крайних идей – в качестве основополагающих, фундаментальных и даже единственно возможных и правомерных. Радикальное препарирование западноевропейской культуры «левыми» западниками фактически приводило, по убеждению С. Булгакова, к порождению принципиально иных идей, концептов, традиций, нежели западные; более того, во многом противоположных по своему смыслу и направленности, нежели рожденные в лоне Западной Европы.
Так, по мнению Булгакова, «западноевропейская культура, по крайней мере, наполовину имеет религиозные корни, построена на религиозном фундаменте, заложенном средневековьем и реформацией» (37). Особенно велика, по убеждению С. Булгакова, роль реформации в формировании западноевропейской цивилизации: и новоевропейская личность, и политическая свобода, и свобода совести, и права человека и гражданина, и принципы ведения народного хозяйства, и достижения современной науки, философии – все это явилось результатом, смысловым итогом «культурной истории западноевропейского мира», которая «представляет собою одно связное целое» – благодаря именно эпохе реформации, соединившей средние века с новым временем в культурно-цивилизационную систему.
Правда, отмечает русский мыслитель, в этих позитивных успехах западной цивилизации заключалась и своеобразная опасность (для культуры, для цивилизации, для общества). Это «культурное самодовольство разбогатевшего буржуа», в результате которого человек предстает как «свое собственное провидение» (40). Культ человека и его развернувшихся сил, воплощенных в науке и технике, философии и просвещении, сложившийся в ходе западноевропейской истории, – это несомненное человекобожие, или самообожение человека.
Однако подобное человекобожие на Западе оказывается, по Булгакову, не очень опасным. «Хотя для религиозной оценки это самообожествление европейского мещанства – одинаково как в социализме, так и в индивидуализме – представляется отвратительным самодовольством и духовным хищением (у религии, полагает Булгаков. – И. К.), временным притуплением сознания, но на Западе это человекобожество, имевшее свой Sturm und Drang, давно уже стало <…> ручным и спокойным, как и европейский социализм. Во всяком случае, оно бессильно пока расшатать (хотя с медленной неуклонностью и делает это) трудовые устои европейской культуры, духовное здоровье европейских народов. Вековая традиция и историческая дисциплина труда практически еще побеждают разлагающее влияние самообожения» (40–41). Многомерная и плюралистическая система западноевропейской культуры, глубоко укорененная в исторических традициях и устоявшихся нормах, эффективно блокирует любые экстремистские и радикалистские тенденции, нейтрализует их в ценностно-смысловом отношении, не позволяя им выйти на передний ряд общественной жизни.
Иная ситуация складывается в России XIX – начала ХХ в. Здесь начиная с середины XIX в. «религия человекобожества и ее сущность самообожение» были приняты русской интеллигенцией патетически, восторженно; самосознание русской интеллигенции виделось ей как «героизм самообожения», ее миссия в стране понималась как роль Провидения. «Состояние героического экстаза, с явно истерическим оттенком» – так выглядело типичное мировоззрение русского интеллигента-радикала (как его характеризует С. Булгаков). Оно было обусловлено культурно и исторически: «Изолированное положение интеллигента в стране, его оторванность от почвы, суровая историческая среда, отсутствие серьезных знаний и исторического опыта взвинчивали психологию этого героизма». Чисто религиозная идея спасения России и само чудесное пришествие ее Спасителя, мессии воплощались именно в интеллигенции и в конкретном интеллигенте. «Преследования, гонения, борьба с ее перипетиями, опасность и даже погибель» представителей русской интеллигенции – все работало («в атмосфере непрерывного мученичества», преклонения «перед святыней страданий») на создание культа интеллигенции, готовой на крайние средства, включая самопожертвование, ради Идеи (41–42).
Следствиями этого культа, по Булгакову, были и максимализм целей интеллигентского героизма («революционный романтизм»), и мечта об «историческом прыжке» в царство свободы, и максимализм средств (чреватый прямолинейностью суждений, аморализмом, нравственным разрешением террора и других «социально опасных опытов», будущей революционной диктатурой как формой «героического самоутверждения» и острой борьбой между соперничающими революционными лидерами за степень радикализма политических требований и первенство в будущей диктатуре), и личный аскетизм героев-интеллигентов, и их «народопоклонство» (еще один тип религии человекобожия). Чем фанатичнее и радикальнее делался культ интеллигентского героизма и жертвенного служения народу, тем более крайние силы торжествовали в революции, тем более решительных действий они требовали, тем более твердой силой они казались обществу, тем неизбежнее были их историческая победа над умеренными и фатальный приход к власти.
Стоит упомянуть здесь о двух книгах, посвященных почти целиком религиозной природе русской революции. Обе рукописи совсем недавно были извлечены из архива русской эмиграции и опубликованы впервые только в современной, посттоталитарной России. Одна из них – книга Н. Бердяева «Духовные основы русской революции: Опыты 1917–1918 гг.» – была написана в период с апреля 1917 г. по октябрь 1918 г., по следам свежих впечатлений от совершавшейся на глазах автора русской революции.
В книге Бердяева заслуживают специального рассмотрения главы «Религиозные основы большевизма (Из религиозной психологии русского народа)» и «О характере русской революции». Отвергая поверхностный взгляд на большевизм как на «явление совершенно внерелигиозное и антирелигиозное»34, Бердяев, напротив, утверждал, что «русский большевизм – явление религиозного порядка, в нем действуют некие последние энергии, если под религиозной энергией понимать не только то, что обращено к Богу. Религиозная подмена, обратная религия, лжерелигия – тоже ведь явление религиозного порядка, в этом есть своя абсолютность, своя всецелость, своя ложная, призрачная полнота» (43).
Бердяев особо подчеркивает тоталитарный характер большевизма как религии: «Как вероучение фанатическое, он не терпит ничего рядом с собой, ни с чем ничего не хочет разделить, хочет быть всем и во всем. Большевизм и есть социализм, доведенный до религиозного напряжения и до религиозной исключительности» (43). «…В сознании русских большевиков революционный социализм остается религией, которую они огнем и мечом хотят навязать миру. Это что-то вроде нового Ислама, в котором хотят заслужить себе рай избиением неверных» (44). Отмечая сектантский и мистический характер большевизма, Бердяев видит глубокую историческую укорененность подобной религиозности в русской культуре: «Одержимость большевизмом есть новая форма исконного русского хлыстовства» (49).
Важным для Бердяева оказывается объяснение метафизического генезиса русской революции: «Русская революция есть кризис русской культуры. Кризис этот является результатом длительного отрицания первооснов культуры справа и слева, религиозно-апокалиптического и революционно-нигилистического отрицания. В нем обнажается основное противоречие русской культуры» (377). «Русская революция обнаружила недостаточность религиозного воспитания русского народа» (383).
Другая книга – Д. Мережковского «Тайна русской революции: Опыт социальной демонологии» – написана им накануне Второй мировой войны и незадолго до смерти писателя; она представляет собой горький итог почти полувековых размышлений писателя о революции вообще и прежде всего – о русской революции. «Русская революция есть не только политика, но и религия (точнее, антирелигия), – вот что всего труднее понять Европе, для которой и сама религия давно уже политика»35. Сказанное еще в 1914 г., до мировой войны и русской революции 1917 г., к началу Второй мировой войны это стало еще более актуальным и трагически значимым. Мережковский напоминает, как Достоевский, этот, по его словам, «пророк русской революции», в романе «Бесы» показал, как могло получиться, что «народ “Богоносец” <…> сделался безбожнейшим из всех народов» (46): ибо, как выразился персонаж этого романа Петруша Верховенский, «новая религия идет» (52). Приняв «на социальной поверхности» бытия (87) новую религию, русский народ не утратил своей религиозности, но незаметно для себя подменил ее другой, более простой и соблазнительной – верой в Богочеловека в лице Ленина и Сталина (70), «одержимостью человека диаволом», революционным беснованием (49). «Тайна русской революции», по Мережковскому, заключается в «неземной природе совершающегося в русской революции изначального и бесконечного Зла» (49), образом которого является «плющильный молот для вдавливания, вплющивания всех духовных глубин и высот в “тоталитарную” плоскость» (65).
Так на примере явлений, обративших на себя внимание лишь очень немногих мыслителей своего времени, мы видим, как на рубеже XIX–XX вв. во всем мире, но особенно в России на основе религиозного сознания и мировоззрения, под действием революции в секуляризованном обществе складываются особые, религиоподобные феномены культуры, вторгающиеся в область политики и морали, науки и искусства, философии и обыденной жизни. Именно эти квазисакральные явления превращенной религии легли вскоре в основание невиданного до того типа цивилизации?– тоталитаризма – и свойственных ему культурных форм – норм, ценностей, концептов, принципов, моделей и т. п.
Из представленных пунктирно рубежных книг русских религиозных мыслителей следует по преимуществу политический и социальный характер сакрализации секулярного, развившейся в русской культуре второй половины XIX–ХХ в. Однако это был не единственный социокультурный процесс, значимый для России за последние полтора века и заявивший о себе в проблемном поле сакрального / секулярного. Не менее важной тенденцией стала сакрализация секулярного в сфере художественной культуры. Здесь наметились две взаимо дополнительные тенденции: сакрализация повседневности и секуляризация священного, приобретающие, в контексте искусства, одинаковое – сакрально-эстетизированное значение.
Эстетизация сакрального / секулярного
Для удобства сначала сошлюсь на примеры из русской литературной классики: из творчества Достоевского и Толстого. Князь Мышкин из романа «Идиот» – «князь-Христос», сниженный вариант второго пришествия Христа, – это сакрализация повседневности, художественное воплощение идеала Христова в человеке, возвышающегося до личности «не от мира сего». А Христос из «Легенды о Великом Инквизиторе» – яркий пример секуляризации священного, когда Христос утрачивает почти все признаки божественности и предстает в художественном облике слабого и страдающего человека, бессильного что-то изменить в мире своим присутствием, своим участием, то есть низведенного до простого очевидца катастрофических событий. Тем временем миссия суда над происходящим, даже, может быть, Страшного Суда, отдана писателем своим заглавным героям – Ивану и Алеше Карамазовым, которые и выносят приговор – герою ли Легенды, оконфузившемуся ли святому – старцу Зосиме, грешнику-страдальцу Мите или старому цинику – своему отцу Федору Павловичу… Однако при вынесении приговора миру остается место и для Черта – то ли плода больного воображения брата Ивана, то ли реального представителя инфернального мира, тщетно изгоняемого отцом Ферапонтом из обители, то есть негативно-сакрального, противостоящего Христу (позитивно-сакральному).
Другой характерный пример – толстовская «Жизнь Христа», изложенная для детей, представляющая собой сводный пересказ евангелий, полностью секуляризованный, лишенный какого бы то ни было присутствия сакрального. В изложении Л. Толстого Иисус Христос – это смертный человек, некогда живший в Иудее, не совершавший никаких чудес и являющийся лишь учителем нравственности, моральным проповедником и бродячим философом Древней Палестины, и никем больше. Сам же Толстой в своих религиозно-философских и морализаторских сочинениях позднего периода творчества («Исповедь», «В чем моя вера?», «Мое Евангелие» и др.) предстает как мыслитель и нравственный философ, конгениальный Христу, как никто понимающий его и продолжающий его благородное дело. Лев Толстой и Иисус Христос как бы уравнены в своих правах и возможностях как учители жизни, как создатели могучих этических учений, как духовные вожди своего времени и как писатели.
Третий пример – из Блока. В стихотворении «Когда в листве, сырой и ржавой…» образы лирического героя, распятого на холме, «пред ликом родины суровой», и Иисуса Христа, плывущего навстречу в ладье, нарочито уравнены, подобны друг другу и даже похожи между собой. Единственное сомнение, терзающее автора и его героя, – произойдет ли встреча двух Христов – земного (поэт) и небесного (Спаситель). Есть предчувствие, что они пройдут мимо друг друга, не узнав, не заметив. Спасение героя исключено. Как и сам Христос, он обречен на одиночество, непонятость, страдание, гибель. В этом трагическом тождестве человека-поэта и Богочеловека сакральное и секулярное, поменявшись местами, уравнялись между собой и стали эстетически неразличимыми.
В финале поэмы Блока «Двенадцать» явление Исуса Христа в сентиментальном «белом венчике из роз» особенно парадоксально: «невредимый» от всего и «невидимый» для всех, – Он то ли в самом деле является Христом, то ли Антихристом, то ли просто кому-то показалось, что похож, и непонятно, существует Он или нет на самом деле. А если это действительно Христос, то куда ведет Он своих «12 апостолов революции» из числа новоявленных красногвардейцев – к спасению, к погибели, к победе мировой революции, на гражданскую войну, на Страшный Суд? А если Антихрист – то куда и зачем ведет? В бездну? В царство Зверя? Размывается граница не только между сакральным и секулярным, но и между позитивно-сакральным (Христом) и негативно-сакральным (Антихристом), так что даже создается впечатление, что для автора (А. Блока) совершенно безразлично, кто же именно почудился лирическому герою во главе инфернально-апокалиптического шествия посреди революционного Петрограда – в черно-снежную мглу, окутывающую призрачный город и его разбойничий караул.
Сакральными остаются: сам призрак Христа или его симулякра; страшная и величественная тайна Его Пришествия – возможного, вероятного, ожидаемого, избегаемого, закономерного, неизбежного, невероятного, невозможного; само ожидание этого Пришествия – независимо от того, реально оно или фантастично, своевременно или неожиданно…
Интересно взглянуть на метаморфозы сакрального в русской художественной культуре с другого смыслового полюса – негативно-сакрального. Как мы знаем, Христос в русской литературе XIX–XX вв. появляется очень редко, а чаще в неожиданном контексте (например, у Достоевского «Мальчик у Христа на елке»). Зато демонические образы, с подачи Байрона и Гофмана, но в национальном переосмыслении, буквально переполняют русскую классику. Так, кроме пушкинских и лермонтовских «демонов» мы встречаем – у Гоголя – тривиального черта. А колоритнейшая линия от пушкинских «Бесов» – к «Бесам» Достоевского, а от них уже к «Мелкому бесу» Ф. Сологуба, в которой образы бесов последовательно секуляризуются, обретая все новые политические, бытовые, психологические черты. Кульминацией этого процесса художественно-философского исследования «бесовщины» является статья Н. Бердяева в сборнике «Из глубины», названная автором «Духи русской революции».
Радикализм этой бердяевской статьи заключается в том, что «духами русской революции» он называет образы Гоголя, Достоевского и Л. Толстого, составляющих гордость и славу русской литературы и философии; причем Бердяев не ограничивается одним лишь творчеством русских классиков, подробно его разбирая, но высказывает рискованную мысль, что «духами русской революции» являются сами эти писатели и мыслители, вольно или невольно схватившие самую суть революционных процессов в России и типажей русской революции, отобразившие их в своих произведениях и воодушевившие своими идеями и образами русских революционеров, осуществивших Октябрь. А если начинать обобщения с эпиграфа к статье из пушкинских «Бесов» («Сбились мы. Что делать нам?»), то, выходит, вся история русской литературы, начиная с Пушкина, готовила русскую революцию. В смысле радикального переосмысления значения русской литературы XIX – начала ХХ в. Бердяев, пожалуй, «даст фору» своему извечному оппоненту – Ленину, который в своей политизации русской литературы все же не так был последователен, ведь не назвал же он «зеркалом русской революции» наряду с Львом Толстым не только Пушкина и Гоголя, но даже и Достоевского, даже Герцена.
«Наши старые национальные болезни и грехи привели к революции и определили ее характер. Духи революции – русские духи, хотя и использованы врагом нашим на погибель нашу. Призрачность ее – характерно русская одержимость. Революции, происходящие на поверхности жизни, ничего существенного никогда не меняют и не открывают, они лишь обнаруживают болезни, таившиеся внутри народного организма, по-новому представляют все те же элементы и являют старые образы в новых одеяниях. Революция всегда есть в значительной степени маскарад, и если сорвать маски, то можно встретить старые, знакомые лица»36.
Среди «старых, знакомых лиц» старой России Бердяев перечисляет Хлестакова, Петра Верховенского и Смердякова, в первую голову. Потом у него появляются «революционный Хлестаков», такой же Ноздрев, «революционный Чичиков»; затем является «русский атеист» и нигилист Иван Карамазов, вместе с Великим Инквизитором, Петр Верховенский с Шигалевым – идеологи русской революции и русского социализма – и «практик» – Смердяков. Наконец, появляется и Черт Ивана. Тем самым Достоевскому раскрылась «встреча и смешение Христа и антихриста в душе русского человека, русского народа. Апокалиптичность русского народа и делает эту встречу и это смешение особенно острым и трагическим»37. А толстовская мораль, по Бердяеву, обезоружила Россию непротивлением злу.
Более того, создавая образы мирового и русского Зла, с тем чтобы бороться с ним, изобличать его в окружающем мире, русские классики – вольно или невольно – эстетизировали его, обращали в многозначные емкие символы и тем самым его – в рамках художественной культуры – своеобразно сакрализовали. Приведу несколько парадоксальных примеров из Гоголя. Цикл повестей Гоголя «Миргород» («Мiргородъ» = «город мiра», «мiрской город») композиционно состоит из двух пар взаимополемичных и контрастных повестей: сентиментальные «Старосветские помещики» противостоят героической повести «Тарас Бульба»; фантастический и мистический «Вий» антиномичен гротескно-комической и сатирической повести «о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».
Однако четырехчастную композицию можно представить и как смысловой «ромб», в котором сентиментальное и героическое начала перекрещиваются с фантасмагорическим и гротескно-сатирическим. Образуемый этим «скрещеньем» антиномий Крест – это тайный гоголевский знак страдания, общечеловеческого «несения креста», христианского жертвоприношения. Миргород, «град земной», средоточие человеческих страстей и пороков, мелочной суеты и тщеты личных амбиций, осенен свыше авторским крестом и как бы благословлен Гоголем на дальнейшее свое существование, во всех четырех ипостасях. Таков весь «мiръ», такова грешная человеческая природа, говорит нам Гоголь, но и этот мир, при всем его несовершенстве, – это мир Господень и населяющие его миряне несут на себе крестное знамение.
Нет нужды здесь добавлять, что Миргород, как и Сорочинцы, и Диканька, – это малая родина писателя, и описание ее наполнено теплотой детства Гоголя, очарованием его памяти. Тем самым захолустный малороссийский городок вознесен на небывалую высоту – на уровень воплощения Города Мира, средоточия всех соблазнов и надежд человечества. Однако зыбок вознесенный над этим мировым Градом невидимый миру крест – символ наполняющей его муки!
Понятно, что это Гоголь, увиденный глазами человека по крайней мере ХХ, а то и, пожалуй, XXI в.; за каждой деталью секулярного мира (бытописательством, психологизмом, социально-критическим пафосом, поначалу принимавшимися наивным читателем и критиком за черты «реализма») просвечивает таинственное сакральное, куда более важное по смыслу. Так, Ревизор из одноименной комедии – это не только дурашливый Хлестаков, с трудом догадывающийся о своей истинной роли (а она не случайна, а закономерна, и эта закономерность гораздо важнее случайности), но и одновременно Вестник из «того мира», материализовавшееся предупреждение о том, что грядет иной, неподкупный Ревизор – то ли из Его Императорского Величества Тайной Канцелярии чиновник по особым поручениям с секретным предписанием – «вывести на чистую воду» всех взяточников и коррупционеров, занимающих соответствующие посты в «вертикали власти»; то ли из самой Небесной Канцелярии с указанием о предстоящем Страшном Суде, на котором надлежит предстать каждому Держиморде, Сквозник-Дмухановскому, Ляпкину-Тяпкину, Землянике, доктору Гибнеру, Марье Антоновне, вдове-слесарше, которая «сама себя высекла», и всем, всем, всем, в душах которых теснятся гоголевские типы, оспаривая друг у друга первенство – в очереди смертных грехов.
Еще того страшнее «Мертвые души». Это только с точки зрения «неистового» Виссариона Белинского, идеолога «натуральной школы», и его радикальных последователей гоголевская поэма развертывает перед читателями «реалистическую» панораму русской жизни с резкими «абличениями» бюрократизма, крепостничества, раннебуржуазного авантюризма и т. п. Все это секулярная «поверхность» реальности, ее «видимость» и даже «кажимость». А за этой поверхностной «пленкой» секулярного проступает невидимая сакральная сущность. Причем негативно-сакральная сущность бытия, растворенная в мире, чреватая Концом света.
Гоголевская поэма апокалиптична; населяющие Россию люди: мужики – от Степана Пробки до Елизаветы Воробейъ, помещики – от Манилова до Плюшкина, чиновники – от Ивана Кувшинного Рыла до покойного прокурора города N, – все это «мертвые души» – как в прямом, так и в переносном смысле, то есть души, не способные к воскресению, «души малые и небессмертные», как у щедринской лягушки на препарации. Страна «мертвых душ»! Страна, в которой не действует христианский закон бессмертия души и воскресения из мертвых. Наконец, страна, где торжествует новоявленный капиталист Чичиков (но не просто «подлец-человек», или «капитан Копейкин», или воскресший из небытия «новый Наполеон», но, как догадался Д. Мережковский, всамделишный Черт), по дешевке скупающий погибшие души, да еще и одетый во фрак «брусничного цвета с искрой», то есть в «красную свитку» (из «Вечеров»), цвета «пекла», но по столичной официальной моде (Дьявол во фраке). «Смертию смерть поправ», Чичиков, как это понял тот же Мережковский, – это торжествующий Антихрист, Грядущий Хам.
И этот-то Черт, этот Вестник иного мира, оценщик и скупщик бывших человеческих душ, этот Князь Тьмы несется по миру на лихой необгонимой Тройке, оставляя позади другие государства и страны. Куда несется апокалиптическая Тройка, управляемая русским Мефистофелем? Вырвется ли она из бесконечных кругов гоголевского Ада? – Мы понимаем, что нет (судя по судьбе «Второго тома» гоголевской поэмы, уничтоженного автором, не говоря уже о замысленном «Третьем»). Гоголь уже провидел (устрашаясь собственного визионерства), что «Дьявол существует везде, и от него не отгородишься введением себя только во что-то чистое, он и там есть. Суть не в том, чтобы избегать этого в каком-то очищенном пространстве, а чтобы жить с этим и постоянно вступать в борьбу» (А. Шнитке)38.
Размывание сакрального в его эстетизированном виде – между «негативизмом» и «позитивизмом», между секулярным и религиозным, между общественно-политическим и индивидуально-психологическим и составило магистраль метаморфоз, произошедших с сакральным в культуре ХХ и XXI вв., особенно в русской художественной и философской культуре последнего времени – как советского, так и эмигрантского, как дореволюционного, так и постсоветского.
Как причудливые метаморфозы сакрального и секулярного в русской культуре могут и должны быть прочитаны ключевые произведения русской литературы ХХ в. И не только романы А. Белого «Петербург» и «Москва», М. Горького «Жизнь Клима Самгина», М. Булгакова «Белая гвардия» и «Мастер и Маргарита», И. Бабеля «Конармия», Е. Замятина «Мы», Б. Пильняка «Голый год» и «Красное дерево», А. Платонова «Чевенгур» и «Котлован», повести М. Зощенко «Возвращенная молодость» и «Перед восходом солнца», роман Б. Пастернака «Доктор Живаго»; поэмы А. Ахматовой «Реквием» и «Поэма без героя» и др., но и совсем одиозные советские сочинения… Очерк М. Горького и поэма В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин», романы Н. Островского «Как закалялась сталь», А. Фадеева «Разгром» и «Молодая гвардия», М. Шолохова (или кем бы ни был этот автор) «Тихий Дон» и «Поднятая целина», А. Толстого «Хождение по мукам» и «Гиперболоид инженера Гарина», поэмы А. Твардовского «Страна Муравия» и «Василий Теркин» (включая «Теркина на том свете»)… То же с романами В. Набокова, Г. Газданова, В. Гроссмана, А. Солженицына, В. Аксенова, А. Битова, А. и Б. Стругацких – и вплоть до В. Сорокина, В. Пелевина, Т. Толстой… То же с русской поэзией – от Вл. Соловьева до И. Бродского…
Но довольно и самого перечисления…
Примечания
1 Федотов Г. П. Святые Древней Руси. М.: Моск. рабочий, 1990. С. 197. 
2 Соловьев В. С. Общий смысл искусства // Он же. Философия искусства и
литературная критика. М.: Искусство, 1991. С. 83. 
3 Флоренский П. Иконостас: Избранные труды по искусству. СПб: Мифрил;
Русская книга, 1993. С. 305. 
4 Тэнасе А. Культура и религия. М., 1975. С. 40. 
5 См., например: Панченко А. М. Русская культура в канун Петровских реформ
// Он же. О русской истории и культуре. СПб: Азбука, 2000. С. 67 и др. 
6 Трубецкой Е. Н. Три очерка о русской иконе. «Иное царство» и его искатели в
русской народной сказке. 2-е изд. М.: Лепта-Пресс, 2003. С. 63. 
7 Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и
начала ХХ века // О России и русской философской культуре: Философы русского
послеоктябрьского зарубежья. М.: Наука, 1990. С. 48. 
8 Федотов Г. П. Святые Древней Руси. М.: Московский рабочий, 1990. С. 197. 
9 См.: Панченко А. М. Церковная реформа и культура Петровской эпохи // XVIII
век. СПб: Наука, 1991. Сб. 17. С. 3–16; Панченко А. М. Русский поэт, или Мирская
святость как религиозно-культурная проблема // Звезда, 2002, № 9. С. 140–147. 
10 См.: Иосиф Волоцкий. Просветитель. М.: Издательство Спасо-Преображенского
Валаамского монастыря, 1994. 
11 Там же. 
12 Нил Сорский. Наставление о душе и страстях. СПб: Тропа Троянова, 2007. С. 75. 
13 Там же. 
14 Нил Сорский. Наставление о душе и страстях. С. 76. 
15 Бердяев Н. А. Цит. соч. С. 48–49. 
16 Там же. С. 49. 
17 Федотов Г. П. Трагедия древнерусской святости // Он же. Судьба и грехи
России: Избранные статьи по философии русской истории и культуры: В 2 т. – СПб:
София, 1991. Т. 1. С. 315. 
18 См. в кн.: Философия русского религиозного искусства XVI–XX вв.
Антология. Сост., общ. ред. и предисл. Н. К. Гаврюшина. – М.: Прогресс, 1993. 
19 Федотов Г. П. Трагедия древнерусской святости // Он же. Судьба и грехи
России. Т. 1. С. 315. 
20 Там же. С. 316. 
21 Там же. 
22 Нил Сорский. Наставление о душе и страстях. С. 74. 
23 Бердяев Н. А. Цит. соч. С. 49. 
24 Федотов Г. П. Трагедия древнерусской святости // Он же. Судьба и грехи
России: Избранные статьи по философии русской истории и культуры: В 2 томах. – СПб: София, 1991. – Т. 1. С. 318. 
25 Как известно, на выбор темы магистерской диссертации В. О. Ключевского
повлияли также Ф. И. Буслаев, А. П. Щапов, А. Ф. Бычков и С. В. Ешевский, проявлявшие интерес к житиям как уникальному историко-культурному материалу.
Повышенный интерес к древнерусским житиям святых в 50–60-е гг. XIX в. был
связан с эвакуацией особо ценных рукописей Соловецкого монастыря в Казань в
связи с возникшей угрозой Соловецким островам со стороны Англии во время
Крымской войны. Среди эвакуированных рукописей значительное место занимали
жития, привлекшие интерес ученых-«древников». 
26 Лишь после работ Г. П. Федотова, а на Западе – Марка Блока изучение святости стало предметом гуманитарной науки – истории, культурной и философской
антропологии, религиоведения, культурологии. Особенно важен в этом отношении
двухтомник акад. В. Н. Топорова «Святость и святые в русской духовной культуре».
Т. I (М.; Гнозис; Школа «Языки русской культуры», 1995); Т. II (М.: Школа «Языки
русской культуры», 1998). 
27 Здесь и далее цитируется труд Ключевского «Древнерусские жития святых
как исторический источник» по изданию (М., 2005) с указанием страниц этого издания в тексте. 
28 Ключевский В. О. [Что такое слово Божие?] // Ключевский В. О. О нравственности и русской культуре. 2-е изд. М., 2006. С. 224. 
29 См., например: Пэрри М. К вопросу о «религиозности» русской интеллигенции: религиозный язык у эсеров-террористов начала ХХ века // Россия / Russia.
1999. № 2 (10). 
30 Ср. буквальные формулировки К. Маркса в его работе «К критике гегелевской
философии права. Введение»: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. М., 1955. С. 415. 
31 Булгаков С. Н. Два града: Исследования о природе общественных идеалов.
СПб, 1997. С. 51. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием страниц. 
32 См., например, сборник его избранных работ: Введенский А. И. Статьи по
философии. СПб, 1996. В дальнейшем ссылки даются на это издание в тексте
статьи. 
33 Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции. Репринтное издание 1909 г.
М., 1990. С. 34–35. В дальнейшем ссылки даются на это издание в тексте статьи. 
34 Бердяев Н. Духовные основы русской революции: Опыты 1917–1918 гг. СПб,
1999. С. 42. Далее ссылки на это издание даются в тексте статьи. Впоследствии
многие из высказанных здесь идей Бердяев развил в своих классических работах – «Истоки и смысл русского коммунизма», «Русская идея», «Самопознание». 
35 Мережковский Д. Тайна русской революции: Опыт социальной демонологии.
М., 1998. С. 20–21. 
36 Бердяев Н. А. Духи русской революции // Вехи. Из глубины. – М.: изд-во «Правда», 1991 (Приложение к журналу «Вопросы философии»). С. 251. 
37 Там же. С. 276–277. 
38 Беседы с Альфредом Шнитке / Сост., предисл. А. В. Ивашкин. – М.: Классика – XXI, 2003. С. 146.  |