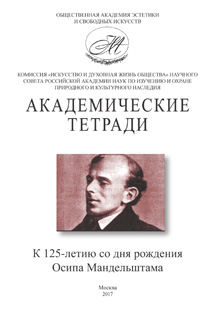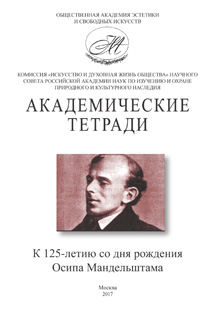 |
|
В тех случаях, когда говорят о «тайной поэтике» какого-либо литератора, обычно имеют в виду два смысла этого выражения: либо это «поэтика тайны», то есть поэтические средства, служащие конспирации, сокрытию тайны (такова, например, 10-я глава пушкинского «Евгения Онегина», дешифрованная С. М. Бонди); либо это «тайна поэтики», то есть закрытая система поэтических средств, нуждающаяся в некоем «ключе» для своего понимания (такова «заумная поэзия» русских футуристов, вроде знаменитого крученыховского «Дыр бул щыл убещур…»). В первом случае погружение вглубь поэтического текста призвано раскрыть зашифрованную в нем тайну, во втором – подобное погружение приводит к сопричастности тайнам и тайнописи как неким сакральным, в принципе не дешифруемым текстам.
1
В известном смысле намеченная здесь типология «тайной поэтики» применима к анализу поэтических текстов безотносительно к проблеме «тайны». Так, сравнение поэзии Пушкина и Тютчева (причем текстов, принадлежащих одному времени) показывает, что они относятся к разным типам поэтики. Пушкинские тексты тяготеют к последовательному «прояснению», кристаллизации смысла; тютчевские же, напротив, к «затемнению» (усложнению, дополнительной проблематизации и символизации, плюрализму интерпретаций).
Примеры: у Пушкина – «Город пышный, город бедный…» (1828), где разрешением всех коллизий становится появление призрака любви («маленькая ножка», «локон золотой»), примиряющего поэта с холодной и пустой Северной столицей; у Тютчева – «Видение» («Есть некий час, в ночи, всемирного молчанья…», 1829), где картина мирозданья стремительно наполняется противоречиями («густеет ночь, как хаос на водах», «беспамятство, как Атлас, давит сушу», «Лишь Музы девственную душу / В пророческих тревожат боги снах!»).
Особенно замеченные закономерности бросаются в глаза в поэзии медитативного характера. Например, в миниатюре Тютчева «И?чувства нет в твоих очах…» (1836) негативный портрет Николая I (а из текста вовсе не следует, что речь идет об императоре) последовательно складывается из отрицания чувства, правды и души у отдельного человека и завершается полным отрицанием смысла бытия: «И нет в творении Творца! / И смысла нет в мольбе!» Ср. у Пушкина «Художнику» (1836) изначально противоречивые чувства («Грустен и весел вхожу…») разрешаются в «сослагательной» концовке стихотворения: память о почившем друге – Дельвиге – наводит на мысль, что покойный «художников друг и советник» обнял бы ваятеля и гордился бы им, если бы был жив. Настроение поэта, не выходя из противоречия «грустен – весел», проясняется за счет постижения вечного значения искусства, примиряющего и с жизнью, и со смертью.
Несомненно, поэтика Мандельштама на всем протяжении его творчества ближе к тютчевской традиции, чем к пушкинской, и тяготеет скорее к «затемнению» и «усложнению» смысла, нежели к его «прояснению» и «упрощению». Наиболее интересны примеры «тайной поэтики» Мандельштама, в которых «смысловые пустоты» текста должны произвольно заполняться читателем исходя из культурно-исторического контекста произведения и домысливаемого его подтекста.
Возьмем хрестоматийнейшее: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса» (1915). Три назывных предложения, соединенных отдаленной ассоциативной связью. Подобный прием в обнаженном виде представил А. Блок в своем знаменитом шедевре «Ночь, улица, фонарь, аптека» (1912). В комментариях к этому стихотворению Блока Д. С. Лихачев указывал, что поэт имел в виду «аптеку самоубийц» на окраине Петербурга-Петрограда у Крестовского моста, но не просто отображал «угрюмые символы ночного города»1, как характеризовал эти четыре слова Д. Е. Максимов, а воссоздавал «призрачное повторение жизни и смерти». «Симметрия построения этого стихотворения, – продолжал Д. С. Лихачев, – не вертикальная, а с горизонтальной осью – осью берега, отделяющего жизнь наверху от смерти внизу, в ледяной воде»2.
Проще всего было бы представить содержание упомянутого стихотворения Мандельштама так: поэт, страдающий бессонницей, чтобы как-нибудь заснуть, выбрал скучную книгу – «Илиаду» Гомера, а в ней самое занудное место – описание кораблей, отплывающих к берегам Трои. Задумываясь поневоле о сюжете эпопеи, поэт вспоминает, что война разыгралась из-за Елены Прекрасной, то есть из-за любви… А тем временем рядом шумит Черное море, напоминая Средиземное, где и разыгралась вся эта древняя история. Эта вполне возможная и правдоподобная интерпретация стихотворения Мандельштама раскрывает его самые поверхностные смысловые пласты, остающиеся тривиальными и едва ли не бытовыми. Между тем Мандельштам, как и до него Блок, а еще раньше?– Тютчев, имеет в виду нечто более глубокое и философски насыщенное.
Август 1915 г. Уже год как идет Первая мировая, или, как ее называли нередко современники Мандельштама, Русско-германская война. Уже стало ясно, что эта война затяжная, кровопролитная, почти что безысходная, вовлекающая в себя все новые и новые силы и ресурсы, но ничем не насыщаемая, бесконечная. От этого бессонница. И рождается мысль, что начало мировым войнам, потрясавшим Европу, положила Троянская война, многолетняя, бессмысленная, прославленная, возникшая в том же Средиземноморье. Но ни Гомер, ни море ничего не объясняют в отношении причин войн. Любовь? Она может быть движущим фактором гомеровской поэмы, даже морской стихии, но не войны.
Какой ветер надувает «тугие паруса» мировых войн? Почему Европа, колыбель мировой культуры и литературы, уже который раз становится ареной чудовищных массовых истреблений? Последняя мировая, подобная Черному морю, уже плещется у изголовья. От нее исходит и «тяжкий грохот», и изощренное «витийство» (вроде лозунгов: «Война до победного конца!», «Отечество в опасности!»). На фоне этого шума разрушений искусство («Гомер») замолкает, и все разумные и красивые формы оправдания войн («Эллада», «поезд журавлиный», «журавлиный клин», «чужие рубежи», «головы царей», «божественная пена», «ахейские мужи», наконец, «любовь» – к Елене, к Трое, к Элладе) оказываются несостоятельными, неубедительными. Остается лишь «тяжкий грохот» рушащихся цивилизаций и культур.
И – страшная догадка! – может быть, в самом деле есть связь между развитием высокой культуры (в Греции, в Германии, в России, в Европе в целом) и генезисом ужасных, бесчеловечных войн, уничтожающих культуру и культуры? Связь между истоком европейской и мировой культуры – Гомером, парусами вечной войны и бессонницей человечества, вселенского Разума, мировой культуры, столкнувшихся со своим жутким порождением?
В обоих случаях – и блоковского «Ночь, улица, фонарь, аптека…», и мандельштамовского «Бессонница. Гомер. Тугие паруса» мы в своем анализе продвигаемся вглубь текста – от поверхностных к глубинным структурам, а от них – к смыслу текста3.
И здесь перед нами открываются два принципиально разных пути погружения в текст: один предполагает постепенное упрощение текстовых структур, ведущее к прояснению смысла и отсеиванию, «отшелушиванию» второстепенных, частных смыслов ради выявления общего, обобщенного смысла. Так происходит в большинстве пушкинских текстов; например, в стихотворении «Эхо» (1831) итоговый смысл поэтического текста сформулирован в самом его конце: «Тебе ж нет отзыва… Таков / И ты, поэт!» Или в стихотворении «Туча» (1835): «Довольно, сокройся! Пора миновалась…» Все противоречия сняты; конфликты разрешены; смысл обнажен в его окончательной простоте и единственности. Но этот путь, по существу, исчерпан уже самим Пушкиным. Ни у кого из позднейших русских поэтов практически не наблюдается в такой чистоте стратегия погружения в текст с целью определения последнего смысла как мыслимого предела углубления в текст.
Уже у Лермонтова мы встречаем иной, во многом противоположный путь погружения в текст. По мере продвижения от поверхностных структур с самоочевидным содержанием к все более и более глубинным слоям текста мы обнаруживаем усложнение содержания, усиление внутренних противоречий, нагнетание драматизма. В результате обретаемый в глубине текста смысл предстает в виде разветвленного и все расширяющегося множества перечащих друг другу смыслов или, напротив, сплетенного «узла» смысловых противоречий, своего рода ризомы. Достаточно бегло взглянуть, например, на стихотворение «И скучно и грустно» (1840), чтобы увидеть, как напластовываются друг на друга различные переживания «скуки» и «грусти», соединенных вместе: «душевная невзгода», потребность «напрасно и вечно желать», а затем – «любить… но кого же?», ощущение, что от «прошлого нет и следа», «и радость, и муки, и все там ничтожно», «страсти» вступают в противоборство со «словом рассудка», чтобы в конце прийти к трагическому итогу: «И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, – / Такая пустая и глупая шутка…»
Еще более сложные смысловые «узлы» завязываются в текстах Тютчева, где итоговое размышление словно призвано опровергнуть начальное утверждение или, во всяком случае, предельно его осложнить (1869):
Природа – сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.
Здесь не только полемика с естествоиспытателями 1860-х гг., с «писаревщиной», но и убеждение метафизика, что искать смысл в природе – значит не только думать, что «мыслящий тростник» умнее простого тростника, но и сомневаться в существовании всеобщего Творца и благости Провидения.
По существу, любой поэтический текст Тютчева строится по такой логике. Стихотворение «Как сладко дремлет сад темно-зеленый…» (1836) начинается с вполне миметического описания ночного пейзажа, исполненного сна и покоя. Постепенно картина ночного мира усложняется: включается музыка сфер, на мир дневной опускается некая «завеса», «изнемогло движенье, труд уснул», зато включились таинственные потусторонние силы, проснулся «гул непостижимый»… И вот уже созрел заключительный аккорд, сплетенный из тревоги, смутных переживаний и мыслей о смерти и краткости жизни, ночного хаоса, объясняющий этот гул:
Иль смертных дум, освобожденных сном,
Мир бестелесный, слышный, но незримый,
Теперь роится в хаосе ночном?..
Явление, давшее повод для поэтического переживания, в итоге оказывается элементарным, но в ходе дальнейшего размышления оно обрастает огромным количеством подробностей и условий, которые в своей совокупности превращаются в смысловую сеть, на порядок более сложно организованную и несущую в себе неизмеримо более сложное содержание, ставшее результатом развития исходного впечатления. Это значит, что по мере углубления в поэтический текст он разрастается как в структурном, так и в смысловом отношении и глубинные структуры текста оказываются более развитыми и многозначными, нежели поверхностные. Не вычленение генерализованного смысла, а умножение смыслов происходит в ходе прочтения подобных текстов.
В этом же направлении развивается поэтика и Блока, и Гумилева, и Ахматовой… Но максимального усложнения смысла поэтического текста добивается Мандельштам – за счет предельно далеких ассоциаций между ключевыми словами (концептами) поэтического текста.
2
Возьмем еще одну хрестоматийно известную триаду поэтических концептов у раннего Мандельштама («Декабрист», июнь 1917) – «Россия, Лета, Лорелея». Обращение к декабристской теме в начале русской революции было, конечно, не случайно. Тема «сладкой вольности гражданства»; напрасной жертвы, принесенной декабристами на алтарь свободы; цена «правды в скорбном мире» и даже плач Европы «в тенетах» – все это было актуально после февраля 1917 г.4 Что декабризм находится у истоков Февраля, что он ради идей республики променял свой «честолюбивый сон» на «глухое урочище Сибири» – факты самоочевидные. Но вот что не вполне очевидно для продолжателей дела декабристов, русских революционеров: «Но жертвы не хотят слепые небеса: / Вернее труд и постоянство», то есть действительность изменяется в ходе длительной и трудоемкой эволюции, а не в результате революционного нетерпения и самопожертвования.
Происхождение русского свободолюбия – идеи немецкого романтизма (шум «германских дубов», «подруга рейнская» – «вольнолюбивая гитара», «пунша пламень голубой», баллады Шиллера) и греко-римской античности (республиканский строй, «языческий сенат», триумфальные квадриги)… В российской истории и впрямь «всё перепуталось»: «честолюбивый сон» и жертвенность русских романтиков, оказавшихся со своим республиканством в сибирской ссылке; наследие германской культуры рубежа XVIII–XIX вв., воодушевившее образованных русских людей, и смутно припоминаемая через далекие образы античность – не то римская, не то греческая, но по-русски интерпретированная. Вот он – русский узел! – «Россия, Лета, Лорелея»! Лета – река забвения в мире мертвых, Аиде, – здесь связующее звено между современной революционной Россией и родиной европейского романтизма – Германией. Русские революционеры забыли о своей немецкой родословной, которая заключена не в шиллеровском пунше, не в «вольнолюбивой гитаре», а в другой «подруге рейнской» – Лорелей, девушке в золотой одежде, с золотым гребнем в руке, поющей волшебные песни на высокой скале над Рейном, в том месте, где река резко сужается и убыстряет свое течение.
Символический образ речной феи Лорелей, рожденный фантазией К. Брентано («На Рейне в Бахарахе», 1801) и подхваченный многими немецкими романтиками, в том числе Г. Гейне, несет в себе значения завораживающей красоты и роковой гибели, в то же время это романтический миф, объясняющий тщету всех человеческих усилий колдовскими чарами рейнской нимфы. Как читаем в балладе Гейне (1824):
Охвачен безумной тоскою,
Гребец не глядит на волну.
Не видит скалы пред собою,
Он смотрит туда, в вышину.
Я знаю, река, свирепея,
Навеки сомкнется над ним, –
И это все Лорелея
Сделала пеньем своим.
(Перевод В. В. Левика)
Если бы современники поэта не напились воды из Леты, они бы помнили, что и кто их ожидает в ходе революции. Если бы гребцы русской революции не всматривались в потустороннюю сияющую даль, они бы видели предстоящие драматические испытания, заслоненные романтической эйфорией. Их участь трагически предрешена, хотя и кажется сладостной, от неведения и от того, что «всё перепуталось», причем дважды перепуталось:
Всё перепуталось, и некому сказать,
Что, постепенно холодея,
Всё перепуталось и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея.
Первый раз «всё перепуталось» – так что не осталось объективной, трезвой точки зрения на происходящее в России; поэтому «некому сказать», что впереди – Лорелея, гибель. Второй раз «всё перепуталось» в том смысле, что охватывающий уже смертный холод неотличим от сладостного забвения. И Россия погружается в Лету, а в то же время несется по течению навстречу своей Лорелее – революции.
В 1935 г., во время воронежской ссылки, поэт вспомнил о своей «рейнской подруге». Контекст был «благоприятным»: в Германии Гитлер пришел к власти, в СССР Сталин праздновал триумф своей воли на «Съезде победителей», в Арктике развертывалась челюскинская эпопея, отвлекая внимание мировой общественности от зарождающегося Большого террора. В «Стансах» Мандельштам заклинает себя выжить во что бы то ни стало, но исторические и личные обстоятельства явно не способствуют выживанию ни поэта, ни поэзии.
Я должен жить, дыша и большевея,
Работать речь, не слушаясь, сам-друг.
Я слышу в Арктике машин советских стук,
Я помню всё: немецких братьев шеи
И что лиловым гребнем Лорелеи
Садовник и палач наполнил свой досуг.
У Мандельштама складывается удивительная конструкция, где в одно целое собираются большевизм, поэзия, арктический шум, шеи немецких братьев, гребень Лорелеи, садовник-палач и его странный досуг (располагающийся между мичуринскими опытами и показательными казнями)… Эта жуткая ризома – впечатляющий образ сталинской эпохи.
С. С. Аверинцев был прав, когда, ссылаясь на высказывание П. Верлена, писал, что «читатель Мандельштама не раз встретит это взаимопроникновение “точного” и “неопределенного”, сказанного и несказанного. Поэтому его стихи так заманчиво понимать – и так трудно толковать». Одна из особенностей «тайной поэтики» Мандельштама как раз и заключается в прямом сближении и даже столкновении концептуальных философских построений с пространством «смысловой неопределенности», ассоциативной «размытости», текста с подтекстом. «Что во всем этом отличает Мандельштама от всесветного типа поэта нашего столетия, – продолжал размышлять Аверинцев, – так это острое напряжение между началом смысла и “темнотами”. Это не беспроблемный симбиоз, в котором эксцессы рассудочности мирно уживаются с эксцессами антиинтеллектуализма. Это действительно противоречие, которое “остается глубоким, как есть”, и должно таковым оставаться в любой интерпретации. Противоречие не оставляет места для самодовольства, совершенно исключаемого тютчевской традицией»5.
Парадоксальное сближение далеких ассоциаций, столь широко распространенных в поэзии Мандельштама, вызывает следующую отсюда особенность его поэтики: сопряженные таким образом смыслы по-разному прочитываются в различных культурно-исторических контекстах, сближение которых усиливает многозначность глубинных структур текста, превращающихся в целые «гроздья» перечащих смыслов – смысловые кластеры. «Россия – Лета – Лорелея» – именно такой кластер. Большевизм – поэзия – Арктика – Лорелея – сад и эшафот (в «Стансах» 1935 г.) – тоже.
Опыт комментирования творчества позднего Мандельштама М. Л. Гаспаровым, связанный с выявлением сложнейшей интертекстуальности его поэзии, демонстрирует бесконечность и неисчерпаемость возможных источников и контекстов, собранных в множественные «пучки» смыслов6. «Внимание наше, – писал М. Л. Гаспаров, – было обращено не на отдельные семантические атомы (образы и подтексты), а на складывающуюся из них общую структуру целого. Все подтексты отдельных образов – от Фламмариона до Байрона и Н. Федорова – реализуются, лишь будучи вписаны в эту структуру»7.
3
Блестящую работу с кластерной техникой демонстрирует Мандельштам в своем лаконичном шедевре из «Воронежских тетрадей»: «Пусти меня, отдай меня, Воронеж…» (апрель 1935)8. На первый взгляд перед нами виртуозная формалистическая игра со словом «Воронеж», которое членится так и эдак, рождая различные аллитерации и изощренную фонику. Между тем в этом четверостишии автором выражена вся трагедия плена, заточения – прежде всего душевного и духовного.
Стихотворение строится как униженная просьба к городу-западне отпустить узника (лирического героя, поэта, человека) на волю. При этом оно незаметно членится на три части: сначала – сама просьба. Затем – пророчество о том, как эта просьба может быть выполнена, учитывая насильственность всех акций, связанных с местом ссылки и заточения поэта. Наконец, нравственно-эстетический приговор городу Судьбы. Трехчастная композиция (внутренне размытая) демонстрирует неизбежность и неотвратимость судьбы, клонящейся к трагическому исходу.
Интерпретация воображаемого освобождения поэта («пусти», «отдай») решена в зловещих терминах, фонетически производных от имени города: «уронишь», «проворонишь», «выронишь», «вернешь». Во всех перечисленных версиях «освобождения» оно травматично, особенно если иметь в виду, чтo роняется, теряется, выбрасывается – поэт, ценность личности которого непереводима на житейский язык. Даже допущение, что поэта Воронеж «вернет», ужасно: вернет, но куда? – в место предшествующей ссылки – Чердынь? Или в тюрьму ГПУ?
И вот приговор ненавистному городу: «Воронеж – блажь, Воронеж – ворон – нож…». Если «блажь» – всего лишь “нелепая причуда”, “сумасбродство”, “дурь”, “насильственный произвол” – это свойства не столько самого города, сколько тех, кто в него сослал поэта; при этом объектом подобной «блажи» становятся и место заключения поэта, и сам поэт, то продукты «распада» слова «Воронеж» – «ворон» и «нож» – знаки смерти, насильственного конца, убийства – как поэта, так и самой поэзии. Освобождение узника совести оказывается возможным лишь как утрата, сумасшествие, смерть, гибель культуры.
Продемонстрированный метод прочтения поэтических текстов Мандельштама достаточно универсален. В любом его тексте мы видим систему ключевых слов (концептов), составляющих глубинную структуру поэтического произведения, которая приближает нас к его смысловому ядру.
Возьмем еще одно стихотворение – «Умывался ночью на дворе…» (1921). Проще всего было бы считать его нарративом житейской ситуации: поэт умывался ночью на дворе водой из бочки; ворота были заперты на замок; в воде отражались звезды; поблизости лежал топор, которым рубили соль; на земле расстелен свежий холст… Ну и что следует из этого описания? Картина деревенского быта, которая была внове для городского человека и книжного поэта?
Между тем стихотворение явно имеет философский характер, и его концепция определяется сетью слов, несущих особую смысловую нагрузку. Здесь «земля» и «твердь»; эту оппозицию (низ / верх) дополняет пара «вода» и «звезды»; к этим субстанциональным понятиям примыкает «соль», почему-то сопряженная со звездами: «Звездный луч – как соль на топоре»; «тает в бочке, словно соль, звезда»… За слоем субстанциональных понятий расстилается слой слов нравственно-экзистенциальных: «совесть», «правда», «беда» и «смерть», которые как-то незримо соотнесены с понятиями субстанциональными… Поэт утверждает почти античное единство космоса и душевной организации человека, его микрокосма.
Но это единство далеко от равновесия и гармонии. Только что закончилась революция, перешедшая в страшную Гражданскую войну. Впереди – неопределенность и тревога. «Земля» и «твердь»?– это вертикаль мира, пронизывающая все живущее общей связью. Звезды на небе и «соль земли» – как бы отражение друг в друге небесной и земной сущностей мироздания.
«Вода» – горизонталь мира, растворяющая в себе и «звезды», и «соль», и она «черна», как ночное небо. Единство сил небесных и человеческого бытия величественно и грозно. «Земля» – «сурова», как «совесть»; «холст» – «чище правды» и символизирует «основу» человеческого бытия (это и одежда, и материал живописца). «Вода» – «студена», и в этом качестве омовение ею – испытание и закалка характера, нравственное очищение. «Топор», орудие труда и подспорье в домашнем быту, жаждет человечьей «соли» и зловеще предрекает историческое возмездие. Субстанциальные и экзистенциальные основы мироздания так тесно переплетены между собой, что, кажется, они зависят друг от друга. И вот:
Тает в бочке, словно соль, звезда,
И вода студеная чернее,
Чище смерть, соленее беда,
И земля правдивей и страшнее.
Лишь только звезда растаяла в воде, как соль, все смыслы бытия встали на свои места и стали глубже, очевиднее поэтическому взору. Мимолетное соприкосновение лирического героя с «музыкой сфер», с космическим порядком проясняет трагические коллизии мира, в котором царят страх, беда, мрак и смерть, и в понимании этих простых истин заключены правда и соль жизни, чистота смерти и безысходность будущего («На замок закрыты ворота…»). Наступает катарсис.
Один из самых глубоких интерпретаторов поэзии О. Мандельштама С. С. Аверинцев писал в своем предисловии к книге Е. Глазовой «Поэтика Мандельштама: сдвиг к постмодернизму»9: «Мандельштам – виртуоз точно продуманных диаметрально противоположных утверждений, делаемых в один и тот же период жизни, подчас в одном и том же тексте; в одной строке слово стоит словно бы перпендикулярно к другому, и это отнюдь не причуда, но самое существо его поэтической позиции. Его поэзия резко противоположна классицизму и авангардизму, находясь в чрезвычайной близости и к тому, и к другому. Мы ощущаем напряжение между логическими полюсами и в стихах, и в прозаических рассуждениях поэта»10.
Поддерживая интенцию Е. Глазовой, направленную на понимание творчества О. Мандельштама как раннего русского постмодернизма (а в этом отношении Мандельштам соседствует с такими новаторами Серебряного века, как В. Розанов и А. Белый, а позднее – М. Цветаева, А. Ахматова и Б. Пастернак), С. С. Аверинцев подчеркивал принципиальную парадоксальность мандельштамовской поэтики: «Связность в бессвязности – это действительно сущность мандельштамовской мысли, и мы не увидим связности – подчас поразительной и всегда неожиданной, – если не перечувствуем содержательное отсутствие внешней связности»11.
Может быть, лучшей иллюстрацией этого заключения является стихотворение «Куда мне деться в этом январе?» (конец января – 1 февраля 1937 г.), кульминацией которого становится кластер: «Читателя! Советчика! Врача!» – вопль отчаяния, не получающий ни ответа, ни разрешения противоречий, ни выхода из трагического тупика. Лишенный своего читателя, поэт, находясь в безысходной жизненной ситуации, ищет и не находит советчика для своей судьбы, а врач, к которому взывает обреченный на гибель человек, бессилен перед Большим террором, излечить от которого страну невозможно! Круг замкнулся. Гибель неизбежна. Поэзия подтверждает приговор жизни и истории…
Это еще одна разгадка «тайной поэтики» Мандельштама. Все пытаются прочитать его творчество как неоклассицизм, поздний символизм, акмеизм, авангард, и одно не складывается с другим. Улавливая внешние связи, мы теряем внутренние. Пытаясь выявить единственную в своем роде связность мандельштамовских текстов, мы упираемся в их бессвязность. Однако «ключ» к его «тайной поэтике» лежит в другом ящике письменного стола поэта.
Примечания
1 Максимов Д. Е. Поэзия и проза Ал. Блока. – Л.: Сов. писатель, 1975. – С. 112. 
2 Лихачев Д. С. Избранные работы: В 3 тт. – Л.: Худож. лит., 1987. – Т. 3. – С. 341–342. 
3 См. подробнее: Мельчук И. А. Язык: от смысла к тексту. – М.: Языки славянской культуры, 2012. – С. 33–65. 
4 См. анализ этого стихотворения в моей работе «Тяжба с эпохой: Осип
Мандельштам»: Кондаков И. В., Шнейберг Л. Я. Русская литература ХХ века: В 2-х
кн. – Кн. 2. Проза поэзии. – М.: Новая волна, 2003. – С. 200. 
5 Аверинцев С. С. «Мы – смысловики…» // Аверинцев и Мандельштам: Статьи
и материалы. Записки Мандельштамовского общества. Выпуск 17. – М.: Изд-во
РГГУ, 2011. – С. 22–23. 
6 См.: Гаспаров М. Л. О. Мандельштам: Гражданская лирика 1937 года. – 2-е
изд. – СПб: Свое издательство, 2013. 
7 Там же. С. 82. 
8 Ср. интерпретацию этого стихотворения в моей работе «Тяжба с эпохой: Осип
Мандельштам»: Кондаков И. В., Шнейберг Л. Я. Русская литература ХХ века: В 2-х
кн. – Кн. 2. Проза поэзии. – М.: Новая волна, 2003. – С. 235–236. 
9 Glazova E. Mandel’shtam’s Poetics: A Challenge to Postmodernism. – Toronto,
2000. 
10 Аверинцев С. С. Предисловие к книге Елены Глазовой «Поэтика
Мандельштама: сдвиг к постмодернизму» // Аверинцев и Мандельштам: Статьи и
материалы. – С. 155. 
11 Там же. С. 156.  |