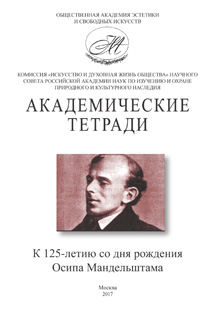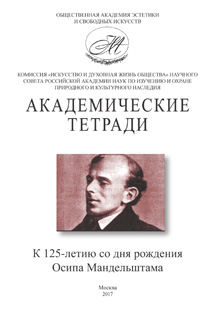 |
|
В статье доказывается, что источник концепции слова и онтологической поэтики Осипа Мандельштама – учение о Логосе Гераклита Эфесского, изложенное в его поэме «О природе». В статье выявлены скрытые отсылки Мандельштама к Гераклиту и показана специфика функционального преломления гераклитовских аллюзий в разных периодах творчества поэта-акмеиста. В свете обнаруженных перекличек и проекций становится понятным ряд семантических идей и тропеических ходов Мандельштама (например, идея соотнесенности звуковой оболочки слова и его смысла; мотив «текучести» мира и одновременно его структурного единства; прием «обратимой метафоры», знаменующей тождество различных аспектов бытия, и проч.).
Принято считать, что идея Слова-Логоса у Осипа Мандельштама восходит к богословским источникам2. Однако когда Осип Мандельштам провозгласил в статье «Утро акмеизма» (1913) Логос одним из ключевых понятий акмеистической поэтики, он апеллировал, по нашему предположению, не к христианскому, а к более раннему – древнегреческому – истолкованию термина. Никаких сакральных коннотаций, никакого намека на отождествление Слова-Логоса и Бога-Сына мы в статье не находим. Речь идет исключительно о проблемах поэтической семантики:
Медленно рождалось «слово как таковое». Постепенно, один за другим, все элементы слова втягивались в понятие формы, только сознательный смысл, Логос, до сих пор ошибочно и произвольно почитается содержанием. От этого ненужного почета Логос только проигрывает. Логос требует только равноправия с другими элементами слова3.
Правда, автор не дает прямых отсылок и к эллинизму (эти отсылки появятся позже – в выше упомянутых статьях 1920-х гг.). Однако сам факт авторского отстаивания логосной природы поэтической речи не только как смысла-содержания, но и как формы отсылает нас к раннему – досократическому – представлению о Логосе, впервые философски обоснованному Гераклитом Эфесским (544–483 до н. э.).
Почему мы так уверенно отсылаем читателя именно к Гераклиту? Во-первых, потому что в творчестве Мандельштама находим отсылки к образно-метафорическим ходам, обнаруживаемым в гераклитовой поэме «О природе». Во-вторых, онтопоэтика Мандельштама, а на архетипической глубине и его модель мироустройства, имеет разительное сходство с картиной мира древнегреческого мыслителя, причем эти соответствия трудно объяснить лишь типологическими совпадениями.
Читал ли Мандельштам Гераклита в оригинале? Древнегреческий язык Мандельштам в университете учил, но, по свидетельству Константина Мочульского, относился к нему скорее как поэт, нежели как лингвист: «Мандельштам не выучил греческого языка, но он отгадал его»4. В каких переводах Мандельштам мог читать Гераклита? К 1912–1913 гг., то есть ко времени написания «Утра акмеизма», были опубликованы два перевода фрагментов Гераклита, один из них был сделан Г. Ф. Церетели (1902)5, второй – В. О. Нилендером (1910)6. Скорее всего, Мандельштам был знаком со вторым переводом. В издании, подготовленном Нилендером, параллельно с русским переводом был представлен древнегреческий оригинал, что давало Мандельштаму дополнительные возможности для постижения и истолкования фрагментов Гераклита7. Аллюзии и скрытые отсылки к Гераклиту появляются на протяжении всего творчества Мандельштама8, но в разные жизненные периоды для поэта были значимы различные грани учения эфесского мудреца.
В эпоху «бури и натиска» акмеизма Гераклит оказал влияние на формирование филологической концепции Мандельштама, что отразилось и в теоретических положениях «Утра акмеизма», и в поэтике его первой стихотворной книги «Камень» (1913; 2-е изд. – 1916). Мандельштам прежде всего заимствует у Гераклита его ключевое понятие – Логос. В гераклитовой поэме Логос (= Слово) несет в себе несколько различных значений, главные из которых – слово/речь и истина/разум. Слово/речь у него – «обладающая таинственным смыслом фонема»9, а истина/разум – «вечный» закон вселенной, верховная мудрость10. Каким образом слово соединяется с семантикой вечного закона? Очень просто: Логос, по Гераклиту, – это не столько вещество или материал, из которого сделаны вещи, сколько Речь, с которой Природа обращается к отдельным вещам для их общего согласования и установления равновесия: «…все бывает согласно Логосу сему» (fr. 1, с. 3). Согласно Гераклиту, все вещи в мире «“неразрывно связаны – с Логосом”, управляющим всем» (fr. 72, с. 29). А. Ф. Лосев, резюмируя рассуждения Гераклита, пишет, что у него «логос, во-первых, есть единство вещей (В50); во-вторых, это всеобщность вещей (В2), присущая вещам настолько глубоко, что логос является “мировым порядком, тождественным для всех” (В30); в-третьих, эта всеобщность является законом существующего (В114), определяя собою каждую вещь (В1) и определяя собою равновесие всех вещей (В31)»11.
Если мы обратимся к статье «Утро акмеизма», то увидим, что для ее автора Логос, как и для Гераклита, обладает несколькими значениями: это и смысл, который мы вкладываем в слово, и форма слова, и структурный принцип построения целого. При этом Логос («слово как таковое») для Мандельштама – некий концентрат бытия, «сверхреальность», гораздо более реальная, чем окружающая действительность. И эта идея еще более сближает поэта с эфесским философом. Именно с обоснования этого тезиса он начинает свою программную статью:
Существовать – высшее самолюбие художника. Он не хочет другого рая, кроме бытия, и, когда ему говорят о действительности, он только горько усмехается, потому что знает бесконечно более убедительную действительность искусства. <…> поэт возводит явление в десятизначную степень, и скромная внешность произведения искусства нередко обманывает нас относительно чудовищно-уплотненной реальности, которой оно обладает. Эта реальность в поэзии – слово как таковое (2, 142).
В период формирования принципов акмеизма в полемическом диалоге с символистами (с их неоплатоническими установками) для Мандельштама очень важна была опора на антиантропоморфный гилозоизм Гераклита, истолковывавшего Логос и в чувственно-материальном, и в транс-семиотическом аспекте. Поэт-акмеист уловил в логосной концепции древнегреческого философа грани, которые, возможно, не были учтены его доксографами и толкователями. А. Ф. Лосев, указывая на переводческие искажения и неточные трактовки фрагментов Гераклита, приходит по сути дела к тому же выводу, что и Мандельштам. Он пишет:
Есть соблазн трактовать гераклитовский «логос» («мудрость») как принцип отвлеченно-философский. Но Логос <…> Гераклита не есть просто философская категория и предмет разума; это, кроме того, еще и физическое тело и мифическое существо12.
Как может быть в тексте передана мысль о вещественно-телесной и одновременно квантитативно-символической природе Логоса? Только через язык, ибо язык – та материальная плоть, которой Логос себя проявляет и выражает. Отсюда языковая игра как примета поэтического стиля гераклитовской поэмы»13. Показателен, например, фонемасемантический парадокс Гераклита (fr. 48, с. 18), основанный на соотнесении греческих омографов «лук» и «жизнь», различающихся ударением (которое во времена Гераклита на письме не обозначалось). Ср. перевод В. Нилендера: «…итак, имя луку – жизнь, а дело – смерть» (fr. 48, с. 19). Г. Дильс справедливо усматривает в поэтической семантике Гераклита онтологический смысл:
Гераклит находит в языке сторону, близкую своему образу мысли. Это – сторона фонетическая: звучание слов в большей степени, чем их значение, может дать нам почувствовать истину. Отсюда у Гераклита пристрастие к созвучию слов, отсюда у него любовь к игре словами, отсюда порой изысканная вычурность его языка. Он видит в сходстве звуков что-то многозначительное, неслучайное. Как у пифагорейцев – мистика и символика чисел, так у и Гераклита – мистика звуков14.
В поэтике Мандельштама мы найдем ту же, что и у Гераклита, «мистику звуков», проявляющуюся в приеме анаграммирования15, омонимической и полисемантической игре, паронимической аттракции. Так, название и центральный образ стихотворения «Айя-София» (1912) – анаграмма имени Иосиф (то есть имени автора, данного ему при рождении и при крещении). Функциональное тождество «камня» (в «крестовом своде» собора) и «слова» (в структуре стихотворения), манифестированное в «Утре акмеизма», как бы буквально реализуется в семантическом пространстве «Айя-Софии»: указанная анаграмма метафорически воплощает общность вещественного состава, которая присуща храму и человеку, собору и слову. О закономерности указанного приема свидетельствует еще одно явное анаграмматическое соответствие в другом «архитектурном» стихотворении – «Notre Dame», в заглавии которого спрятано имя Адама. Эта анаграмма в тексте стихотворения вербализуется в фигуре сравнения храма с первочеловеком: «…Как некогда Адам, распластывая нервы...» (1, 83).
Мы полагаем, что, осваивая прием звукосемантического отождествления, Мандельштам опирался на опыт Гераклита. Вряд ли случайно при демонстрации «мистического соответствия» звука и значения в стихотворении «Айя-София» возникают ономастические коды, отсылающие к имени и к общеизвестным прозваниям философа: Гераклит Эфесский и Гераклит Темный. Мы имеем в виду метонимическое упоминание храма Эфесской Дианы (то есть греческой Артемиды) во 2-й строфе и образ темных позолот – в 5-й строфе:
И всем векам – пример Юстиниана,
Когда похитить для чужих богов
Позволила Эфесская Диана
Сто семь зеленых мраморных столбов. <…>
И мудрое сферическое зданье
Народы и века переживет,
И серафимов гулкое рыданье
Не покоробит темных позолот (курсив мой. – Л. К.) (1, 83).
Мандельштаму, безусловно, было известно, что Гераклит посвятил свою поэму «О природе» в храм Артемиды Эфесской16 – как вотивный дар, «чтобы она, – по свидетельству Татиана, – была обнародована впоследствии таинственным образом»17. Этим сакральным актом, возможно, обусловлена намеренная «темнота» стиля сочинения, давшая основание прозвищу его автора18. Неслучайной представляется и фонематическая парадигма, как бы служащая звучащим эхом храмового пространства и одновременно – эхом истории храма Айя-Софии: эфесская – серафимов – сферическое. В том же ряду стоит и анаграмматический шифр имени философа в метафоре «серафимов гулкое рыданье» = Гераклит Эфесский. Фонетическая гомология (включая неполные тождества: и/ы; д/т; е/э) представляется тем разительнее, что в семантике «рыдания» тоже можно усмотреть отсылку к античной легенде о плачущем философе (см. суждения Ипполита, Сотиона, Лукиана, Сенеки19). Отмеченный анаграмматический код заставляет предположить, что знания древнегреческого языка поэту хватило на то, чтобы уяснить философскую подоплеку гераклитовой образности и спроецировать идеи эфесского мыслителя на язык современной поэзии.
«Слово как таковое», начиная с «Утра акмеизма», трактуется Мандельштамом как амбивалентное единство, в котором означающее и означаемое нерасчленимы и взаимозаменяемы, поскольку Логос для него – это «сознательный смысл» и одновременно «прекрасная форма» (2, 142). Идея нерасчленимости плана содержания и плана выражения будет еще более отчетливо выражена в статье «О природе слова» (1921–1922):
…что первичнее – значимость слова или его звучащая природа? Словесное представление – сложный комплекс явлений, связь, «система». Значимость слова можно рассматривать, как свечу, горящую изнутри в бумажном фонаре, и обратно, звуковое представление, так называемая фонема, может быть помещена внутри значимости, как та же самая свеча в том же самом фонаре (2, 183).
Предвосхищая семиотические открытия в области поэтического языка Я. Мукаржовского20 и Р. Якобсона, Мандельштам актуализировал связи между звуком и знаком, звуком и значением. Парономастические явления он выводит в бытийственную сферу: сближенные по звучанию образы у него оказываются соотнесенными и по смыслу. Известный тезис Якобсона, заявленный в работе «Лингвистика и поэтика», является как бы продолжением мысли Мандельштама: «В последовательности, где сходство накладывается на смежность, две сходные последовательности фонем, стоящие рядом друг с другом, имеют тенденцию к приобретению парономастической функции»21.
Как и Гераклит, Мандельштам предполагает, что мироздание (космос) имеет разные стадии формообразования; в стадии оформленности все явления и вещи существуют как отдельные, завершенные, отъединенные друг от друга феномены, а в стадии турбулентности мир возвращается к некоему первозданному состоянию, из которого потом вновь возникают отдельные предметы. У Гераклита первооснова мира – это первоогонь или океан. Океанические (морские) ассоциации возникают и у Мандельштама при воплощении понятия «первоосновы жизни» (вспомним образ «пучины мировой» в «Раковине», «океанические метафоры» в стихотворениях «Сумерки свободы», «Ламарк», «Рождение улыбки» и особенно лейтмотив «океана без окна» как «вещества» существования – в «Стихах о неизвестном солдате». По Мандельштаму, эту изначальную космогоническую стадию характеризует состояние всеобщей связи и связанности всего со всем. Впоследствии вещи и явления, отделившись друг от друга, «помнят» о состоянии единства и подсознательно стремятся к нему.
Именно эту мысль поэт воплощает в стихотворении «Silentium» (1910)22, где он делает попытку представить первооснову явлений – в первозданном, синкретическом состоянии. Всякое рождение, воплощение – это разделение, разъятие целого, то есть невосполнимая утрата первоначальной гармонии. Поэтому призыв к «молчанию» имеет у Мандельштама иную мотивировку, чем у Ф. Тютчева в одноименном стихотворении. Как невидимый свет хранит в себе весь радужный спектр, так и «первоначальная немота» потенциально содержит в себе «и музыку и слово» в синтетическом единстве. Призыв: «И слово в музыку вернись <…> / С первоосновой жизни слито!» (1, 71) – говорит о том, что для Мандельштама не только тишина («немота»), но и музыка – первозданная стихия, предшествующая слову. Объединение «музыки» и «немоты» в «кристаллической ноте» и их обоюдное противостояние и одновременно отождествление со «словом» придает всем трем образам амбивалентный и взаимозаменяемый смысл. Следуя Гераклиту, поэт утверждает: в молчании/музыке заключена не мысль, но само слово (его прообраз, морфологический слепок). Эта идея прямо противоположна тютчевской, ведь если «мысль изреченная есть ложь», то слово искажает мысль. По Мандельштаму, никакого искажения мысли в слове быть не может, поскольку в молчании и в музыке слово уже содержится. Музыка и немота – своего рода предслово, состояние слова, когда то находилось в зачаточном, связанном состоянии: это и мыслеслово (слово, тождественное смыслообразу, то есть содержанию), и музыкослово (слово, тождественное фонетическому звучанию, то есть форме).
Обосновывая концепцию всеединства, Мандельштам прибегает к смелым пространственно-временным инверсиям: он сводит воедино начала и концы, причины и следствия, показывая мировое движение не как линейную последовательность, а как симультанный процесс. Подобный онтопоэтический прием поэт пытается логически обосновать в статье «Слово и культура», апеллируя при этом к философскому авторитету Анри Бергсона:
Чтобы спасти принцип единства в вихре перемен и безостановочном потоке явлений <…> Бергсон рассматривает явления не в порядке их подчинения закону временной последовательности, а как бы в порядке их пространственной протяженности. Его интересует исключительно внутренняя связь явлений. Эту связь он освобождает от времени и рассматривает отдельно. Таким образом связанные между собой явления образуют как бы веер, створки которого можно развернуть во времени, но в то же время они поддаются умопостигаемому свертыванию.
Здесь не вполне уместно обсуждать проблему влияния Анри Бергсона на Мандельштама23, но мы не стали бы утверждать, что Бергсон освобождает явления от «закона временной последовательности». Однако высказанные по поводу Бергсона суждения весьма точно характеризуют идеи Гераклита:
…все едино: делимое – нераздельное, рожденное – нерожденное, смертное – бессмертное, Логос – Вечность, Отец – Сын: Бог Справедливый. «Не меня, но Логос заслышав – согласится вам мудро: едино есть все» (fr. 50, р. 21).
Парадоксальные суждения эфесского мудреца можно объяснить, если только освободить явления и процессы от причинно-следственных и временных связей. Мандельштам, как и Гераклит, мыслит «опущенными звеньями»24, редуцируя посылки и оставляя лишь конечные выводы, поэтому и включает в систему доказательств генетический аспект, сополагая явления вне времени – как «пространственную протяженность».
Безусловно, Мандельштам должен был решить вопрос: как противостоящие друг другу явления приводятся к единому знаменателю? Гераклит полагает, что «разное с собою самим согласуется» (fr. 51, с. 20) благодаря Логосу, потому что именно Логос обусловливает единство мироздания (ср. fr. 50, с. 20), являясь «мировым порядком, тождественным для всех» [пер. А. О. Маковельского], ср. в оригинале fr. 30, с. 14.
Развивая мысль о всеединстве как о гомологии разнопорядковых и противоположных явлений, Мандельштам, следуя за Гераклитом, выдвигает тождество как основной оперативный закон своей поэтической онтологии:
А=А: какая прекрасная поэтическая тема. <…> Способность удивляться – главная добродетель поэта. Но как же не удивиться тогда плодотворнейшему из законов – закону тождества? <…> Мыслить логически значит непрерывно удивляться… (2, 144).
Именно «закон тождества», по Мандельштаму, определяет единство мира, обусловливая механизм связи между словом и бытием, словом и сознанием, природой и культурой. В коррелятивных соответствиях, выстраиваемых Мандельштамом, главную роль играет логика; ибо она есть проявление Логоса в жизни и в искусстве. Логика – это логос, взятый не в номинальном, а в функциональном смысле: как принцип соизмерения вещей, их структурная формула.
В художественной практике Мандельштама подобный подход предполагает корреляцию, при которой уравниваются – как знаки определенного равенства – означающее и означаемое. Лирический сюжет многих стихотворений «Камня» (1916) разворачивается как сопоставление разных (подчас противостоящих друг другу) феноменов – природы и культуры, слова и вещи, звука и смысла; и в ходе этого сопоставления доказывается изоморфизм явлений. Ключевую роль при этом играют метафоры, они становятся доминирующим средством выразительности в поэтике Мандельштама, вскрывая при этом «онтологически первичный пласт языкового видения мира». По сути дела мандельштамовские метафоры выполняют ту же функцию, что и фигуры сравнения у эфесского философа, – функцию доказательства единства мира, причем единства, скрытого от постороннего взгляда (ср. у Гераклита: «Природа любит скрываться» (fr. 123, с. 43)).
Специфика метафоры (позже поэт ее назовет «гераклитовой метафорой», 2, 232) заключается в том, что оба элемента сопоставления (то, что сравнивается, и то, с чем сравнивается) могут перетекать друг в друга, меняться местами. Ср. в стихотворении 1914 г.:
Природа – тот же Рим и отразилась в нем.
Мы видим образы его гражданской мощи
В прозрачном воздухе, как в цирке голубом,
На форуме полей и в колоннаде рощи (1, 96).
Первая посылка, задающая тождество, аргументируется далее парадигматическим рядом метафор, которые вместе с тем несут в себе «обратимую» (по выражению О. М.) смысловую энергию. В таких метафорах и сравнениях, как «форум полей», «колоннада рощи», «прозрачный воздух, как цирк голубой», природные феномены сопряжены с атрибутами античной архитектуры и римской топики. Природный и культурный код оказывается гомологически соотнесен, во-первых, через изоморфизм образной структуры (в 1-й строфе), во-вторых, посредством симпатической корреспонденции магических обрядов (во 2-й строфе) и, в-третьих, с помощью функциональной корреляции их материальных субстратов (в 3-й строфе). Так, «камни» представляют и природную сферу – как «плоть бытия», и сферу культуры – как строительный материал.
Если в стихотворении «Природа – тот же Рим…» тождество природы и культуры фактически манифестируется, то в стихотворении «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» (1915) оно спрятано в подтекст, его должен выстраивать уже сам читатель. Культурный код (гомеровская «Илиада»), заданный в 1-й строфе именем «Гомер», воплощается во 2-й строфе в образах царей, плывущих за Еленой, а также в авторских апеллятивах: «Куда плывете вы? Когда бы не Елена, / Что Троя вам одна, ахейские мужи?» (1, 105). И наконец, в 3-й строфе следует авторская «формула», уравнивающая природный и культурный код: «И море, и Гомер – все движется любовью…» (1, 105).
Тождество в данном тексте представляет собой триаду: оно включает море, Гомера, любовь, при этом любовь оказывается tertium comparationis первых двух образов. Возникает такое впечатление, что Мандельштам воплощает лирическую тему по аналогии с доказательством теоремы: если А равно В, а В равно С, то А равно С. Однако поэт оставляет «за кадром» фонетический ключ к заданному тождеству; этот ключ обнаруживается при переводе слова «любовь» на латинский язык (amor). Amor оказывается анаграммой и Гомера, и моря, явленных как бы в античном коде (в данной тройной анаграмме мы наблюдаем смешение греческой и латинской внутренней формы слов, вполне укорененных в русском языке). Напомним, что к подобному интеръязыковому шифру Мандельштам прибегал и в архитектурных стихах (ср.: камень – скала – Петр; или: Notre Dame – Адам).
Примечательно, что Мандельштам в финале «Бессонницы…» выстраивает еще одно тождество, вытекающее из предыдущего: метрика Гомера выступает своего рода культурным адекватом «шума моря». Автор как бы воочию показывает «взаимозаменяемость» Гомера и моря; культурный и природный коды, как и в стихотворении «Природа – тот же Рим…», оказываются тождественными.
По тому же принципу построен и ряд других стихотворений «Камня» («Notre Dame» (1912), «Бах» (1913), «О временах простых и грубых…» (1914), «Равноденствие» (1914), «Ода Бетховену» (1914) и проч.). Так, в стихотворении «Бах» уже в 1-й строфе намечается смысловой изоморфизм ключевых образов, несущих в себе метонимическую семантику замены/подмены:
Здесь прихожане – дети праха
И доски вместо образов,
Где мелом – Себастьяна Баха
Лишь цифры значатся псалмов (1, 86).
«Доски» оказываются заменами «образов», «цифры» – «псалмов». При этом «прихожане» соотносятся с «прахом» на семантическом и фонетическом уровне (оба слова содержат общие звуки – «п-р-х»). Но образ, который в 1-й строфе предстает в статусе означающего (доски с цифровым обозначением псалмов), во 2–4-й строфах становится означаемым:
Разноголосица какая
В трактирах буйных и церквах,
А ты ликуешь, как Исайя,
О рассудительнейший Бах! <…>
Что звук? Шестнадцатые доли,
Органа многосложный крик,
Лишь воркотня твоя, не боле,
О, несговорчивый старик! (1, 86)
Центральная идея стихотворения опирается на тезис Гераклита, дошедший до нас в 51-м фрагменте. Напомним, в этом фрагменте Гераклит выводит закон единства противоположностей: «…[люди] не понимают, как разное с собою самим согласуется» (fr. 51, с. 21), то есть «не понимают», как формируется гармония мира. И в качестве объяснения философ указывает на устройство лука и лиры (ср. fr. 51, с. 20). Напряжение уравновешивающих друг друга противоположных сил (высокие и низкие тона лиры, натяжение с помощью тетивы расходящихся дуг лука) образует единство. Ср. поясняющий перевод А. В. Лебедева: «Они не понимают, как враждующее между собой находится в согласии (буквально: «гомо-логии, едино-словии» с собой), единое: наоборотный лад (гармония) как / лад / лука и лиры»25.
Мандельштам, следуя Гераклиту, выстраивает тройное тождество. Во-первых, он показывает, что музыка Баха – это «согласование противоположного», объединение «разноголосицы» трактиров и церквей в гармоническое единство (хорал). Во-вторых, автор объясняет, что духовное тело музыки складывается из разнородных множеств материального порядка – «шестнадцатых долей» звука, «многосложного крика» органа, «воркотни» самого композитора. Началом, претворяющим звуковую раздробленность в гармонию, оказывается все тот же Логос, который здесь выступает как логическое «доказательство»: «Опору духа в самом деле / Ты в доказательстве искал?» (1, 86). Примечательно, что в «Утре акмеизма» есть тезис, к которому стихотворение «Бах» может служить иллюстрацией:
…Мы полюбили музыку доказательства. Логическая связь – для нас не песенка о чижике, а симфония с органом и пением, такая трудная и вдохновенная, что дирижеру приходится напрягать все свои способности, чтобы сдержать исполнителей в повиновении (2, 144).
Мандельштам трактует гераклитовский Логос как принцип упорядоченности, соизмеримости, «формульности» вещей – и в реальном бытии, и в творческой вселенной. Получается, что и в бытии, и в искусстве действуют одни и те же формообразующие закономерности, обусловливающие как целокупность и структурированность жизненного потока, так и архитектоническую целостность музыкальных, архитектурных, литературных произведений.
* * *
В эпоху Первой мировой и Гражданской войн идеи Гераклита стали для Мандельштама призмой, сквозь которую он истолковывал само «вещество существования», сотрясаемое социальными катаклизмами. В стихотворениях, написанных в 1916–1921 гг. (из которых была составлена вторая книга стихов «Tristia» (1922)), отражается странная, необычная, в чем-то даже сюрреалистическая картина мира, главное свойство которой – текучесть, изменчивость, безостановочный поток трансформаций. Мандельшта-мовские стихотворения этого периода как бы иллюстрируют тезис Гераклита о текучести мира.
Стихийное начало вошло в плоть мира, расплавило его твердые формы, сдвинуло все со своих мест. Так, в «Сумерках свободы» (1918) земля обретает качество текучести («земля плывет»), и в то же время океан представляет твердую субстанцию, поскольку его можно разделить плугом («как плугом океан деля...», 1, 124). Подобных примеров множество, и они касаются жизненно важных субстанций – воды, воздуха, земли, солнца. Ср.:
Словно темную воду я пью помутившийся воздух (1, 126),
Струится в воздухе лед бледно-голубой. <…>
В огромной комнате тяжелая Нева,
И голубая кровь струится из гранита (1, 111).
Воздух твой граненый. В спальне тают горы
Голубого дряхлого стекла (1, 129).
Это солнце ночное хоронит
Возбужденная играми чернь (1, 122).
В сухой реке пустой челнок плывет… (1, 130).
Этим превращениям можно найти аналоги в гераклитовских фрагментах:
«…ступени огня: во-первых – море, а море – наполовину земля, а наполовину – смерч». Именно, он говорит (то есть Гераклит) о значении его, что огонь, благодаря управляющему всем «Логосу» и Богу – с помощью воздуха обращается во влагу – как бы в некое семя миропорядка, которое он зовет «морем»; а из него снова рождается земля и небо и объемлющий их (воздух) (fr. 31, с. 15).
Вне концепции Гераклита трудно понять амбивалентный пафос (трагический и одновременно профетический) приятия Мандельштамом революции. По Гераклиту, бурлящее вселенское бытие обусловлено борьбой и всемерным напряжением противоположных сил – за право жить, существовать. Смерть одних дает жизнь другим, это, по Гераклиту, закономерный мировой порядок.
Схожие идеи мы находим в лирике и эссеистике Мандельштама на рубеже 1910–1920-х гг. В частности, в докладе «Скрябин и христианство» (1915–1919) обнаруживаются разительные переклички с фрагментами Гераклита, усиленные тезисом об эллинизме как родовом лоне русской духовности. Ср.:
Гераклит
…огонь благодаря управляющему всем «Логосу» … обращается во влагу – как бы в некое семя миропорядка… (fr. 31, с. 15)
Война есть всего отец и всего царь (fr. 53, с. 21).
Но должно знать, что война есть общее, и что правда – распря, и что все рождается благодаря распре и необходимости (fr. 80, с. 31).
Бессмертные – смертны, смертные – бессмертны: живущие их смертью – их жизнью умирающие (fr. 62, с. 25).
Мы живем их (душ. – Л. К.) смертью и живут они ей смертью (fr. 77, с. 31). |
«Скрябин и христианство»
Семя смерти, упав на почву Эллады, чудесно расцвело: наша культура выросла из этого семени… (2, 160)
Битва не окончена – война в полном разгаре. Всякий, кто чувствует себя эллином, и ныне должен быть на страже – как две тысячи лет назад. <…>
Эллинство, оплодотворенное смертью, и есть христианство (2, 160).
Ткани нашего мира обновляются смертью. <…> |
Почему Мандельштам заговорил об обновлении «через смерть» с отсылкой к Гераклиту в докладе, написанном по поводу смерти Скрябина? Не потому ли, что Скрябин – автор знаменитой симфонической поэмы «Прометей» (второе название – «Поэма Огня»), в которой небесный огонь, доставляемый Прометеем, трактуется как активное начало мира, его творческий принцип, амбивалентный символ обновления через разрушение (мировой пожар)26. Скрябинская приверженность огненной семантике как некой зиждительной основе бытия ассоциировалась у Мандельштама с гераклитовыми представлениями. Вот почему Мандельштам увидел в творчестве Скрябина новую «ступень русского эллинизма», а в нем самом «закономерное раскрытие эллинистической природы русского духа»: «Огромная ценность Скрябина для России и для христианства обусловлена тем, что он – безумствующий эллин. Через него Эллада породнилась с русскими раскольниками, сожигавшими себя в гробах» (2, 158).
Примечательно, что Мандельштам в докладе делает попытку синтезировать эллинство и христианство, отождествляя гераклитовскую доктрину об обновлении мира через смерть с жертвенной смертью и воскресением Иисуса Христа. С этого момента гераклитовское представление о Логосе как о всеобщем законе мироздания дополнится в истолковании Мандельштама христианской трактовкой Логоса как Второй ипостаси Бога – Воплощенного Слова. Ср.:
Евангелие от Иоанна
И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца (Иоанн, 1:14).
|
О. Мандельштам, «Слово и культура» (1921)
В жизни слова наступила героическая эра. Слово – плоть и хлеб. Оно разделяет участь хлеба и плоти: страдание» (2, 170).
|
Думается, что толчком к объединению христианского и эллинистического понимания Слова-Логоса послужило имяславское движение, к которому Мандельштам относился весьма сочувственно (см. его стихотворение «И поныне на Афоне…» (1915)). Имяславские идеи могли восприниматься Мандельштамом как современная параллель не только исихастским идеям отцов Церкви (Григория Паламы, Григория Нисского и др.)27, но и учению Гераклита. Имяславцы отождествляли имя Бога с Богом, поскольку Его имя трактовали как эманацию божественной энергии. Мандельштам, возможно, усмотрел здесь сходство с гераклитовым учением об огненной (то есть тоже энергетической) природе Логоса. И в том и в другом случае для поэта важен момент воплощения Божественного Имени, согласно имяславским постулатам, или материализации Слова-Логоса, согласно гераклитовскому учению. Не случайно в статье «О природе слова» Мандельштам, с одной стороны, возводит генезис русского языка к эллинской филологической культуре, с другой – к евангельскому постулату о воплощении Слова-Логоса:
Русский язык – язык эллинистический. По целому ряду исторических условий живые силы эллинской культуры, уступив Запад латинским влияниям и ненадолго загощиваясь в бездетной Византии, устремились в лоно русской речи, сообщив ей самобытную тайну эллинистического мировоззрения, тайну свободного воплощения, и поэтому русский язык стал именно звучащей и говорящей плотью. <…> Эллинистическую природу русского языка можно отождествлять с его бытийственностью. Слово в эллинистическом понимании есть плоть деятельная, разрешающаяся в событие (2, 176).
Христианская огласовка Логоса не означала отхода Мандельштама от гераклитовских постулатов. Однако в новых общественных условиях для поэта приоритетными становились иные грани учения эфесского мыслителя. Так, если раньше он акцентировал внимание на законе тождества как доказательстве единства и целокупности мироздания, где «все» объясняется «через все», то теперь он обращает внимание на кардинальные изменения субстанциальных свойств мира. Прежняя гармоническая картина мира сильно пошатнулась. Мир пришел в движение, но это, согласно Мандельштаму, не апокалипсический распад бытия, а закономерная стадия мирового порядка, суть которой – в расплавлении старых форм, возвращение их к пренатальному состоянию.
По Гераклиту, все в мире происходит мерно (отсюда Логос, в его истолковании, – это еще и мера). Во всех вселенских катаклизмах и разрушениях есть определенный смысл. Мир может погибнуть, но эта гибель есть возвращение ко всеобщему (вечно живому огню, мировому океану), из которого впоследствии снова вычленяются отдельные вещи, и опять начинается время и история. Ту же «мерную» логику повторения мировых процессов мы находим у Мандельштама. Ср.:
Все было встарь, все повторится снова,
И сладок нам лишь узнаванья миг (1, 124).
…А я говорю: вчерашний день еще не родился. Его еще не было по-настоящему. Я хочу снова Овидия, Пушкина, Катулла, и меня не удовлетворяет исторический Овидий, Пушкин, Катулл (2, 169).
Художественная топика Мандельштама эпохи войн и революций – это топика связанных друг с другом вещей, которые как бы погружаются в изначальное родовое лоно мироздания (гераклитов огонь или океан). Вот почему в пространстве сборника превалируют два мотива: один мотив воплощает связанность, стихийную нерасчлененность вещей, событий и времен (ср.: «Всё перепуталось…», 1, 115).
Причем это качество «спутанности» распространяется и на онтологические, и на семантические феномены. Отсюда сюрреалистическая образность многих стихотворений книги «Tristia», смысловые ходы которых порою можно понять только с помощью «гераклитова кода». Так, образ «связанных ласточек» в «Сумерках свободы» – яркий символ несвободы, но несвободы специфической, потенциально животворной:
Мы в легионы боевые
Связали ласточек – и вот
Не видно солнца; вся стихия
Щебечет, движется, живет (1, 122).
Второй мотив знаменует движение вещей, явлений, «всего живого» вспять – к точке рождения. Ср.:
Вернись в смесительное лоно,
Откуда, Лия, ты пришла… (1, 126)
«Вернись в смесительное лоно…» (1922)
Из гнезда упавших щеглов
Косари приносят назад –
Из горящих вырвусь рядов
И вернусь в родной звукоряд (1, 144).
«Я по лесенке приставной…» (1922)
Обратно в крепь родник журчит
Цепочкой, пеночкой28и речью… (1, 149)
«Грифельная ода» (1923)
К кольчецам спущусь и к усоногим,
Прошуршав средь ящериц и змей,
По упругим сходням, по излогам
Сокращусь, исчезну, как Протей.
Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь,
Обрасту присосками и в пену
Океана завитком вопьюсь (1, 186).
«Ламарк» (1932)
Ключевые образы в каждом из процитированных стихотворений («смесительное лоно», «крепь», «гнездо», «родной звукоряд», «пена океана») по функциональному смыслу тождественны «первооснове жизни» в «Silentium». И хотя к первородным истокам стремится возвратиться уже не слово, а лирический субъект, поющий «против шерсти мира», а в «Грифельной оде» и сам мир, но в обоих случаях речь идет о гармонии, по выражению Гераклита, повернутой вспять, к своим истокам (fr. 51, с. 20) (перевод наш. – Л. К.).
Важно отметить, что движение вспять характерно, по Мандельштаму, не только для предметов и субстанций, но и для времени. В докладе «Скрябин и христианство» (1915–1919) читаем:
…Времени нет! Христианское летоисчисление в опасности, хрупкий счет годов нашей эры потерян – время мчится обратно с шумом и свистом, как прегражденный поток, – и новый Орфей бросает свою лиру в клокочущую пену (2, 157–158).
Отсюда следует, что «корабль времени», идущий «ко дну» в «Сумерках свободы», – это не столько симптом наступления российского Апокалипсиса (как этот образ обычно истолковывают), но некое погружение времени в родовое – панхроническое – лоно. Ср. в «Слове и культуре»: «Но бывают такие эпохи, когда человечество, не довольствуясь сегодняшним днем, тоскуя, как пахарь, жаждет целины времен» (2, 169).
Поэтому в стихотворениях второй книги Мандельштама превалирует эоническое время, что на практике проявляется в приеме симультанного отображения явлений действительности. Поэтому в пространстве «Tristia» некоторые образы объединяют в себе несколько временных планов – прошлое и будущее как бы сходятся в одной точке, но не сливаются в настоящем, а интерферируют. Например, черепаха в одноименном стихотворении (1919) предстает одновременно и лирой, то есть в ее настоящем уже содержится будущее превращение в музыкальный инструмент:
Нерасторопна черепаха-лира,
Едва-едва беспалая ползет <…>.
Она во сне Терпандра ожидает,
Сухих перстов предчувствуя налет (1, 125).
В стихотворении «Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы…» (1920) свойства тяжести и нежности отождествляются, поскольку в прошлом роза (= нежность) была землею (= тяжестью), и она как бы помнит об этом. Вот почему лирический сюжет стихотворения развертывается как водоворот времени, в котором перепутанные хронологические пласты заставляют увидеть метаморфозы объекта, пребывающего попеременно в разных субстанциональных качествах:
…Время вспахано плугом, и роза землею была.
В медленном водовороте тяжелые нежные розы,
Розы тяжесть и нежность в двойные венки заплела! (1, 126)
* * *
Следует подчеркнуть, что наряду с эонически-целинным временем в «Tristia» параллельно развертывается другой хронотопический сценарий, инспирированный революционными катаклизмами и восходящий к гераклитовому постулату о чередовании космогонических и эсхатологических процессов. Вот почему заявленная в «Tristia» проблема разрыва времени в последующую эпоху становится для Мандельштама едва ли не магистральной лирической темой. И в ее философском осмыслении поэт, как мы покажем ниже, опирается на метафорические афоризмы Гераклита.
Так, в «Стихах 1921–1925 годов» мотив прерванной связи времен воплощается через метафору разбитого позвоночника. И вряд ли случайно Мандельштам, реализуя этот мотив, трижды прямо или имплицитно упоминает детскую игру в бабки:
Дети играют в бабки позвонками умерших животных (1, 147)29.
«Нашедший подкову» (1923)
И в бабки нежная и гра… (1, 150)
«Грифельная ода» (1923)
…И невидимым играет
Позвоночником волна.
Словно нежный хрящ ребенка
Век младенческой земли… (1, 145)
«Век» (1922)
Примечательно, что те же мотивные вариации встречаются и в «Tristia», и в «Московских стихах» (1930–1934)30:
А в Угличе играют дети в бабки… (1, 110)
«На розвальнях, уложенных соломой…» (1916)
И там, где сцепились бирюльки,
Ребенок молчанье хранит,
Большая вселенная в люльке
У маленькой вечности спит (1, 202).
«В игольчатых, чумных бокалах…» (1933)
Если б этот мотивный инвариант встретился в творчестве Мандельштама один или два раза, то его перекличку с 52-м фрагментом Гераклита можно было счесть совпадением, но пятикратное повторение свидетельствует о несомненной намеренности интертекстуальной апелляции. Сравним с Гераклитом:
…Вечность есть дитя, играющее костями – царство дитяти (fr. 52, с. 21).
Как видим, в приведенных выше мандельштамовских цитатах повторяется тот же семантический комплекс, что и у Гераклита31, включающий а) сему игры [в кости / бабки / бирюльки]; б) сему костей / позвонков / позвоночника / хряща; в) сему детства / ребенка; г) сему вечности / века / времени.
Кстати, заметим, что указанный интертекстуальный мотив окончательно убеждает нас, что Мандельштам отдавал предпочтение переводу В. Нилендера, поскольку только в нилендеровском переводе 52-го фрагмента речь идет об игре в кости32. Но не исключено, что поэт и сам переводил этот фрагмент. Об этом свидетельствует образный полисемантизм Мандельштама: в одних лирических контекстах семантический комплекс игры – детства – костей служит метафорой века, в других – вечности. Дело в том, что эон переводится с древнегреческого как «вечность» и как «век». Но в любом случае можно сделать вывод, что этот гераклитовский афоризм был для Мандельштама парадигмообразующим мотивом, воплощающим его концепцию «века» и временнх закономерностей в целом.
Следует отметить, что в позднем творчестве Мандельштам все чаще вводил аллюзии на Гераклита в свои произведения. Эти интертекстуальные переклички требуют специального комментария и анализа. Мы из-за ограниченного объема статьи ограничимся лишь констатацией некоторых мотивных совпадений, сведя их для наглядности в таблицу.
Гераклит
…но «сору подобен высыпаемому самый прекрасный космос», говорит Гераклит (fr. 124, с. 125).
…по закону времен седьмирица сочетается (воедину) в Селене, но она распадается надвое в медведицах (fr. 126а, с. 45).
«У валька путь прямой и кривой» (обращение снаряда, называемого в вальке раковиной, – прямое и кривое; ибо он сразу ходит и вверх и по кругу) – говорит Гераклит – «один и тот же самый» (fr. 59, с. 23).
…море – вода чистейшая и самая грязная, питье и спасение для рыб – для людей пагубное питье (fr. 61, с. 25).
…и также говорит о воскресении сей видимой плоти, в которой мы рождены, и знает, что Бог виновник сего воскресения, говоря так: «там восстают пред Сущим и бодро стражами делаются живых и мертвых»; но еще говорит, что бывает суд космоса и всего что в нем – помощью огня (fr. 63, с. 25).
|
Мандельштам
Я дышал звезд млечных трухой,
Колтуном пространства дышал.
И подумал: зачем будить
Удлиненных звучаний рой,
В этой вечной склоке ловить
Эолийский чудесный строй?
Звезд в ковше медведицы семь. <…>
Распряженный огромный воз
Поперек вселенной торчит.
Сеновала древний хаос
Защекочет, запорошит... (1, 143)
«Я по лесенке приставной…» (1922)
И тянется глухой недоразвиток
Как бы дорогой, согнутою в рог,
Понять пространства внутренний избыток
И лепестка и купола залог (1, 202).
«Преодолев затверженность природы…» (1934)
…И когда я наполнился морем – Мором стала мне мера моя... (1, 254)
«Флейты греческой тэта и йота…» (1937)
До чего эти звезды изветливы!
Все им нужно глядеть – для чего?
В осужденье судьи и свидетеля,
В океан без окна, вещество. <…>
Ясность ясеневая, зоркость яворовая
Чуть-чуть красная мчится в свой дом,
Словно обмороками затоваривая
Оба неба с их тусклым огнем. <…>
– и столетья
Окружают меня огнем (1, 241–245).
«Стихи о неизвестном солдате» (1937)
|
Таким образом, можно сделать вывод, что закон тождества, заявленный в «Утре акмеизма», инспирирует метафорический принцип конструирования поэтического текста как целого. Глубинная связь метафорических приемов Мандельштама с философскими идеями Гераклита обнажается в «Разговоре о Данте» (1933), где автор прямо апеллирует к Гераклиту при анализе специфики дантовского метафоризма. Цитируя 25–42-й стихи XXVI Песни Ада, поэт возводит к гераклитовской философии «текучесть» и «обратимость поэтической материи» «Божественной комедии»:
Иногда Дант умеет так описывать явление, что от него ровным счетом ничего не остается. Для этого он пользуется приемом, который мне хотелось бы назвать гераклитовой метафорой, – с такой силой подчеркивающей текучесть явления <…>, что прямому созерцанию <…> уже нечем поживиться. <…> Так вот в этой интродукции мы видим легчайший, светящийся гераклитов танец летней мошкары... (выделено мной. – Л. К.) (2, 232–233).
Можно предположить, что, говоря о «текучести» и «обратимости поэтической материи», Мандельштам имел в виду не только дантовские метафоры (ср.: «Семантические циклы дантовских песней построены таким образом, что начинается, примерно, – «мёд», а кончается – «медь»; начинается – «лай», а кончается – «лёд» (2, 223)), но и собственные семантические метаморфозы, обнаруживаемые в его поздней поэтике. Ср.:
Часто пишется казнь, а читается правильно – песнь…
(1, 207)
…И когда я наполнился морем –
Мором стала мне мера моя...
И свои-то мне губы не любы –
И убийство на том же корню –
И невольно на убыль, на убыль
Равноденствие флейты клоню (1, 254).
Знаменательно, что стихотворение «Флейты греческой тэта и йота…» (1937), посвященное греческому языку, содержит прямые отсылки к 61-му фрагменту Гераклита (см. таблицу).
Итак, Логос понимался Гераклитом как некий закон упорядочивания и оформления мирового единства из противоположных, противопоставленных и враждующих между собой объектов. Внутри этого всеединства «все течет», поэтому «нельзя вступить в тот же самый поток», и к одной и той же «смертной сущности никто не прикоснется дважды» (fr. 91, с. 35). Вещи подвергаются метаморфозам, субстанции перетекают одна в другую, но Логос остается вечным и неизменным, благодаря чему гераклитовская картина мира при всем драматизме и турбулентности процессов, протекающих внутри нее, сохраняет устойчивость и соразмерность.
Этот концептуальный стержень становится философской подоплекой размышлений Мандельштама об устройстве мира, закономерностях времени, «мерных» законах протекания природных процессов и социальных катаклизмов. Идея всеединства, которую Мандельштам проецирует на все стороны природного, культурного, лирического бытия, восходит, возможно, и к Бергсону, и к Владимиру Соловьеву, и к иудаистской мифологеме «Авраамова лона». Но первым импульсом, «перводвигателем» развития этой магистральной для творчества Мандельштама идеи был, несомненно, Гераклит.
Примечания
1 Сокращенный вариант данной статьи (под названием «Логос в творчестве
Осипа Мандельштама») опубликован в издании: Les reflets del’ Antiquité grecqueà l’Âged’ Argent. Lyon: Centre d’Études Slaves André Lirondelle. Universite Jean Moulin
Lyon 3, 2015. Р. 179–201. 
2 См.: Иваск Ю. Христианская поэзия Мандельштама» / Новый журнал, n. 103,
1971; Паперно И. О природе поэтического слова. Богословские источники спора
Мандельштама с символизмом / Литературное обозрение, n. 1, 1991. Р. 29–36;
Струве Н. Христианское мировоззрение Мандельштама. В: Столетие Мандельштама:
Материалы симпозиума. Тенефлай, 1994; Аверинцев С. С. Конфессиональные типы
христианства у раннего Мандельштама. В: Слово и судьба. О. Мандельштам. Сб.
науч. тр. М., 1991. С. 287–298. 
3 Мандельштам О. Сочинения в двух томах. Т. II. М., Художественная литература, 1990. С. 142. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте статьи с
указанием в скобках тома и страницы. 
4 Мочульский О. Э. Мандельштам. Воспоминания о серебряном веке / Сост.,
авт. предисловия и коммент. В. Крейд. М., Республика, 1993. С. 269. 
5 См.: Церетели Г. Ф. Доксография [Приложение]. В: Таннери П. Первые шаги
древнегреческой науки. СПб, 1902, [Гераклит] С. 59–69, 25–28. Знакомство с переводом Г. Ф. Церетели тем более вероятно, что Мандельштам был его студентом:
Церетели, будучи ординарным профессором (с 1914 г.) Санкт-Петербургского университета, читал лекции по древнегреческой литературе в 1914–1917 гг., входившие
в учебный план романо-германского отделения, на котором учился Мандельштам. 
6 Гераклит Эфесский. Фрагменты / Пер. В. О. Нилендера. М., Мусагет, 1910.
147 с. 
7 Книга вышла в известном символистском издательстве «Мусагет» в 1910 г., с
переводчиком Мандельштам был знаком: Владимир Нилендер принадлежал к тому
же литературно-философскому кругу (кругу Вячеслава Иванова, блестящего знатока эллинской культуры), в который входил и молодой Мандельштам. 
8 Не исключено, что поэт знал и другие русские переводы Гераклита, вышедшие
в середине 1910-х гг. См.: Гераклит. В: Досократики. Первые греческие мыслители
в их творениях, в свидетельствах древности и в свете новейших исследований. Ч. I
(Доэлеатовский период): Историко-критический обзор и перевод фрагментов, доксографического и биографического материала Александра Маковельского. Казань,
изд-е книжного магазина М. А. Голубева, 1914. С. 116–180. Возможно, Мандельштам
позже познакомился с монографией М. Дынника и с его переводом фрагментов
Гераклита (см.: Дынник М. А. Диалектика Гераклита Эфесского. М., Ранион, 1929,
205 с.), что могло активизировать интерес поэта к гераклитовой философии в
1930-е гг. 
9 Досократики [сост. Г. Дильс]. Пер. А. Маковельского. Минск, Харвест, 1999.
С. 233. 
10 Гераклит Эфесский. Фрагменты. Пер. В. О. Нилендера. М., Мусагет, 1910, fr.
1, с. 3. Далее ссылки на древнегреческий оригинал и перевод В. Нилендера даются
в тексте в скобках с указанием номера фрагмента и страницы. 
11 Лосев А. Ф. История античной эстетики в восьми томах. Т. 1. Ранняя классика. М., Фолио; АСТ, 2000. С. 385. 
12 Лосев А. Ф. История античной эстетики... Т. 1, указ. соч. С. 386. 
13 Ср. ритмический перевод гераклитовых фрагментов, предпринятый
С. Н. Муравьевым: Гераклит Эфесский Пер. С. Н. Муравьева. М., ООО «Ад
Маргинем Пресс», 2012, 416 с. 
14 Досократики [сост. Г. Дильс]… Указ. соч. С. 232. 
15 Об анаграмматических приемах Мандельштама на материале греческого
языка см.: Топоров В. К исследованию анаграмматических структур (анализы). В:
Исследования по структуре текста. М., Наука, 1987. С. 228–231. 
16 Именно об этом храме идет речь в стихотворении Мандельштама. 
17 Татиан. Послание к эллинам. В: Фрагменты ранних греческих философов.
Ч. 1. Пер. А. В. Лебедева. М., Наука, 1989. С. 179. 
18 Ср. объяснение Климента Александрийского: «И мы найдем и тьмы загадочных речений философов и поэтов, поскольку даже целые книги выражают смысл,
вложенный в еще тьмы них сочинителем, в прикровенном виде, как, например,
книга Гераклита «О природе», за что он и получил прозвище «Темный» (Климент
Александрийский «Стоматы». В: Фрагменты ранних греческих философов… Указ.
соч. С 179. 
19 Фрагменты ранних греческих философов… Указ. соч. С. 176–177. 
20 Мукаржовский Я. О поэтическом языке. В: Структуральная поэтика. М.,
Языки русской культуры, 1996. С. 76–131. 
21 Якобсон Р. Лингвистика и поэтика. В: Структурализм: «за» и «против». М.,
Прогресс, 1975. С. 221. 
22 Насыщенность стихотворения гераклитовскими образами и смыслами заставляет предположить, что «Silentium» – первая художественная реакция Мандельштама
на Гераклита, прочтенного в оригинале и в переводе – по указанному выше изданию
В. Нилендера, вышедшему в 1910 г. 
23 Отсылаем читателей к обстоятельной статье Ф. Нетеркотта: Netherkott F.
Elements of Henry Bergson's «Creative evolution» in the critical prose of Osip
Mandel'stam / Russian Literature, vol. 30, n. 4, 1991. Р. 455–466. 
24 По свидетельству Эммы Герштейн, Мандельштам, комментируя затемненный
смысл своих произведений, объяснял: «Я мыслю опущенными звеньями…» (Герштейн Э. Мемуары. СПб, ИНАПРЕСС, 1998. С. 19). 
25 Лебедев А. В. Логос Гераклита. Реконструкция мысли и слова (с новым критическим изданием фрагментов). СПб: Наука, 2014. С. 151. 
26 Примечательно, что Скрябин трактовал Прометея как ипостась Люцифера
(известно его высказывание: «Сатана – это дрожжи Вселенной»); и того и другого,
по мнению композитора, объединяли богоборческие установки и светоносная миссия. Отметим, что стихотворение Мандельштама «Дрожжи мира дорогие…» (1937)
восходит и к скрябинскому афоризму, и – опосредованно – к гераклитовской модели
обновления жизни. 
27 См. подробнее: Оболевич Т. От имяславия к эстетике. Концепция символа
Алексея Лосева. Историко-философское исследование / Пер. с польск. М., Изд-во
ББИ, 2014. С. 57–116 (гл. II «Святоотческие основы имяславия»). 
28 В смыслообразе «пеночки» сохранен семантический след стихотворения
1910 г.: «Останься пеной, Афродита!». Вектор движения – назад, к истокам – тот же
самый. 
29 Данная перекличка с Гераклитом указана М. Л. Гаспаровым. Ср.: «…строка о
разрыве времени “Дети играют в бабки позвонками умерших животных” уводит не
только к собственному “веку” и к последнему царевичу-Рюриковичу в Угличе, но и
к Гамлету и к Гераклиту» (Гаспаров М. Л. Поэт и культура. Три поэтики Осипа
Мандельштама. В: Гаспаров М. Л. Избранные статьи. М., Новое литературное обозрение, 1995. С. 351. 
30 Эти переклички были отмечены Т. Смоляровой. См.: Смолярова Т. Пиндар и
Мандельштам. В: University of Toronto • Academic Electronic Journal in Slavic Studies.
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.utoronto.ca/tsq/13/smolyarova13.shtml. Дата обращения: 24.01.2014. 
31 Возможно, Мандельштаму было известно, что сам Гераклит проводил время,
играя с детьми в кости около храма Артемиды (ср. свидетельство Диогена Лаэртия: «Удалившись в святилище Артемиды, он играл с детьми в кости…» (Фрагменты
ранних греческих философов, указ. соч. С. 176). 
32 В других переводах, сделанных при жизни Мандельштама, встречаем игру в
шашки (пер. А. Маковельского) или в шахматы (пер. М. Дынника). 
|