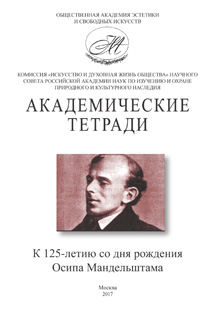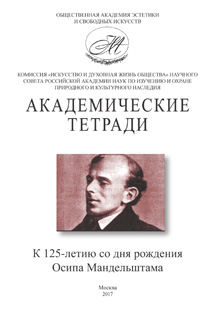 |
|
В 1836 г. при подготовке к публикации в журнале «Телескоп» первого из «Философических писем» П. Я. Чаадаева все случаи употребления «civilisation», так же как и формы, производные от «culture» (в написанном автором по-французски тексте), были переведены на русский язык как «просвещение» и «образование» (либо производными от них формами)1. С точки зрения современного языка и принятых ныне философско-терминологических соответствий такой перевод, строго говоря, не представляется возможным. Во всяком случае, он нуждался бы в далеко уводящих специальных оговорках. Слишком существенно – то ли после «антропологического поворота» в содержании гуманитарного знания в XX в., то ли после более всеобъемлющих социальных катаклизмов того же столетия – оказались разведены у нас концепты просвещение, образование, с одной стороны, и культура / цивилизация – с другой. Причем эти понятия разошлись не только для нас, в России, они разошлись и для других европейцев, еще какое-то время назад вступавших в нешуточные споры, предметом которых было соотношение цивилизации, культуры и просвещения. Что можно быть культурным и непросвещенным – это, конечно, открылось не только «антропологически ориентированному» XX веку. В то же время, хотя «трещина» между культурой и просвещением обозначилась еще на рубеже XVIII–XIX вв. (тут и немецкие романтики, и Руссо), для русской общественной мысли на протяжении большей части XIX столетия между старым понятием просвещения и еще совсем новым понятием культуры скорее ставился знак равенства. И потому надо сказать о том, как это «семантическое равенство» понималось вначале, как из него позднее возникло одно вполне специфичное для России XIX в. неравенство «просвещения» и «культуры» и чем это в конце концов закончилось для «культуры», выговариваемой по-русски.
* * *
В лексиконе русской общественной мысли 1830–1850-х гг. в качестве обобщающих понятий, соответствующих европейским «civilisation» и «culture», выступают обычно «образование» и «просвещение»; они «отвечают» за соответствующую названным европейским концептам смысловую нагрузку. И дело тут не только в известной неразвитости русского лексикона философских понятий, на что сетовал уже А. С. Пушкин2, не только в том, что в русской общественной мысли «еще не выковались» хоть и заемные по происхождению, но свои по смысловой наполненности понятия «культуры» и «цивилизации». Дело и не в том только, что сейчас мы понимаем культуру шире, тогда как в первой половине позапрошлого века ее еще слишком часто ограничивали тем же «просвещением». Если семантическое поле культуры или цивилизации в XIX столетии было «уже», так зато «просвещение» понималось «шире», более объемно и значительно. Так что если потребуется составить русский лексикон культурфилософских понятий середины XIX в., то понятие «просвещение» займет в нем (в отличие от современного концептуального ряда) одну из первых по значимости строк. Поэтому кажущаяся неизменность слова «просвещение», якобы гарантирующая непрерывность и самотождественность этого понятия начиная от середины XIX и на протяжении всего XX столетия, не должна нас обманывать: в языке русской общественной мысли XIX в. просвещение выступает как гораздо более «нагруженное» и «идейное» понятие, нежели «идентичный», но изрядно «потрепанный» современный концепт.
Высокий цивилизационный статус концепта просвещение в русском философском лексиконе и общественной мысли первой половины XIX в. подтверждают работы разных авторов, причем сама по себе обобщающая культурфилософская семантика этого понятия сохраняет силу почти вне зависимости от тех или иных идейных установок и контекстов. Показательными кажутся примеры из «Хроники русского» (1827–1845) А. И. Тургенева. Особенно интересно место, где автор использует концепт просвещение для изложения рассуждений европейских корреспондентов о civilisation. Так, сообщая о своих встречах с О. Тьери, русский автор пишет: «Тьери желает знать, в каких именно авторах можно познакомиться с историей и мирными подвигами древних славян, коими они содействовали успехам европейской гражданственности и, не выдавая себя корифеями просвещений народов, принимали участие во всеобщем развитии сельского домоводства и городской промышленности»3. Характерно, что, излагая место, в котором европейский корреспондент ставит civilisation в pluralis, Тургенев производит идентичную операцию и с соответствующим русским понятием – просвещением… Хотя сочетание «просвещение народов» и не прижилось, оно тем не менее является весьма показательным. Не только потому, что еще раз обнаруживает корреляцию русского «просвещения» и европейской «цивилизации». Но и потому, что именно в акцентируемом А. Тургеневым pluralis помещается «точка взаимоперехода» от просвещения и образования по-русски к цивилизации и культуре по-европейски.
Для того чтобы зафиксировать обобщающую цивилизационную и культурно-историческую семантику просвещения в лексиконе русской общественной мысли первой половины ХIХ в., стоит обратиться к работам И. В. Киреевского – «О характере просвещения Европы...» (1852) и «XIX век» (1832). В обеих статьях просвещение выступает в качестве эквивалента европейских концептов культура и цивилизация, причем взятых как одно целое. Первую из статей открывает обращение к адресату Е. Комаровскому: «В последнее свидание мы много беседовали о характере просвещения европейского, об его отличиях от характера просвещения России, того просвещения, которое принадлежало ей в древние времена и которого следы до сих пор еще не только замечаются в нравах, обычаях и образе мыслей простого народа, но проникают, так сказать, всю душу, весь склад ума, весь, если можно так выразиться, внутренний состав русского человека, не переработанный еще западным воспитанием»4. Концепт просвещение служит здесь для фиксации характера, внутреннего строя, для обозначения духовной жизни народа во всей многогранности ее состава – и в этом смысле выступает в качестве обозначения культуры вообще. У Киреевского просвещение имеет мало общего с образованностью как таковой, взятой в узком (можно сказать, современном) смысле этого слова. Даже когда он использует слово «просвещение», обсуждая, казалось бы, сугубо образовательные вопросы, то и здесь на первый план в понятии просвещения выходит у него интегральная культурно-историческая значимость5.
Для верного понимания смыслового соответствия просвещения европейским понятиям о культуре и цивилизации особенно характерно рассуждение из «XIX в.», касающееся двух типов просвещения: «просвещения всемирного» (мировая культура) и просвещения, выступающего как «частное проявление человечества». Киреевский противополагает тут «всемирному просвещению» «просвещение отдельное, китайски особенное». Контрапункт этих понятий раскрывает отношение «начал русского просвещения» к «просвещению Европы». Европейское просвещение выступает в качестве начала, связующего «просвещение русское, национально особенное» с «просвещением человечества». «Вот почему, – пишет далее автор, – искать у нас национального – значит искать необразованного; развивать его за счет европейских нововведений – значит изгонять просвещение, ибо, не имея достаточных элементов для внутреннего развития образованности, откуда возьмем мы ее, если не из Европы». И. В. Киреевский, можно сказать, приходит здесь к выводу, что только «европейское просвещение» и может считаться культурой в точном и полном смысле этого слова: «С того времени, как история наша позволила нам сближаться с Европою.., начало распространяться у нас и просвещение в его истинном смысле слова, то есть не отдельное развитие нашей особенности, но участие в общей жизни просвещенного мира, ибо отдельное, китайски особенное развитие заметно у нас и прежде введения образованности европейской; но это развитие не могло иметь успеха общечеловеческого»6.
Автор раскрывает перед читателем глубокий смысл сближения с Европой, говорит о первостепенном значении введения на Руси «образованности европейской» (причем последнее понятие явственно перекликается с интегральным немецким Bildung): «Просвещение каждого народа измеряется не суммой его познаний, не сомкнутым развитием его национальности, не утонченностью той машины, которую называют гражданственностью, но единственно участием в просвещении человечества, тем местом, которое оно занимает в общем ходе человеческого развития… Просвещение одинокое, китайски отделенное, должно быть и китайски ограниченное: в нем нет того успеха, который добывается совокупными усилиями»7. Говоря об измерении просвещения «не суммой познаний и даже не сомкнутым развитием национальности», Киреевский, конечно, разумеет много большее, чем только образование на началах науки, – речь всюду здесь идет о том, что будет принято называть культурой в интегральном и обобщающем значении. Позднее представление об отношении русского и европейского просвещения претерпело у Киреевского изменения (в статье «О характере просвещения Европы...» он признается, что уже не готов «уничтожать народную личность, чтобы сродниться с образованностью западною»8). Несмотря на идейные смещения, неизменным, впрочем, остается понимание Киреевским всеобъемлющего характера и исключительного значения просвещения. Причем все контексты и сопоставления, в которых употребляет автор этот термин, выдают в нем понятие, очень близкое культуре.
Итак, просвещение предстает в качестве одной из центральных категорий языка цивилизации и культуры середины XIX в. У И. В. Киреевского это понятие еще не подвергается специальному критическому разбору, он пользуется им как чем-то самоочевидным. Иначе подходят к просвещению представители второго поколения славянофильства. Перемещаясь из разряда понятий, определяемых вполне интуитивно (и потому еще не включенных в философскую рефлексию), просвещение становится концептуальным и самоосознанным стержнем славянофильской идеи. На этом понятии (как и в эпоху Просвещения XVIII в., но теперь под знаком совсем другой идеи) сосредотачивается особое внимание. Больше того, просвещение становится своего рода пробным камнем утверждения славянофильских воззрений. В просвещении видят теперь выражение особенного характера русской культуры. В этой связи существенно сдвигаются акценты: противопоставляются не столько русское и европейское «просвещения», как это было, например, у И. Киреевского. Скорее так – русскому просвещению (которое все более превозносится и почти сакрализуется) противополагается теперь (секулярная) европейская цивилизация. (Этот вариант концептуального соотнесения европейской и русской культуры, хоть он и может показаться «промежуточным», представляется даже более выразительным, нежели последующие концепты, когда ряд авторов, среди которых, например, К. С. Аксаков, начнут говорить о специфической «русской цивилизации».)
* * *
Слова «культура» и «цивилизация» были заимствованы отечественным лексиконом в 1830-е гг. Некоторое время спустя, в 1860-е гг., пройдя проверку на адаптируемость и востребованность, эти понятия становятся обиходными и входят как в философский лексикон, так и в сознание русского образованного общества9. «Цивилизация» вошла в обиход раньше, чем «культура»; хотя с фиксацией этих понятий в русских словарях дело обстояло прямо противоположным образом. О том, что понятие «цивилизация» в общественном сознании закрепилось и упрочилось прежде «культуры», можно судить по частоте употребления обоих терминов в литературе середины века. Отчасти это может быть объяснено доминированием в русском образованном обществе французского языка, в котором при прочих равных условиях безусловное предпочтение отдавалось концепту civilisation, а не culture. Примеры предпочтения «цивилизации» перед «культурой» – особенно в текстах тех русских писателей и публицистов, которые пользуются в основном французским языком, – могут быть приведены в избытке. Так, в трактате «La Russia et l'Occident» (1849), рассуждая об отношении Запада и России, Ф. И. Тютчев неоднократно употребляет «civilisation» и ни разу не использует форму «culture»10. А. И. Герцен в философско-исторических работах 40–60-х гг., подавляющее большинство которых написано за границей, во Франции, также безусловное предпочтение отдавал «цивилизации». В его статьях мы насчитаем десятки употреблений «цивилизации», но «культуры» практически не встретим.
Но предпочтение, отдаваемое «цивилизации» перед «культурой», объясняется не только ориентацией на тот или иной язык (французский, а не немецкий). Не менее важную роль играет здесь и идейная составляющая. Обращение к «цивилизации» имплицируется или идеалами европейского прогресса вообще, или социальным пафосом гражданственности. Для общественной мысли 1840–1860-х гг. последнее имело даже более существенное значение. Понятие цивилизации с его политико-правовыми, гражданственными и прогрессистскими контаминациями было значимее социально нейтральной и «довольно почвенной» культуры. Как мы уже заметили, для А. Герцена «цивилизация» – очень важное понятие. А к слову «культура» он прибегает крайне редко. Но даже единичные случаи использования им концепта культура показательны: «Человек своей культурой, – пишет Герцен, – развил растительные и животные виды, которые сами собой не развились бы»11. «Культура» здесь целиком помещается в сфере сельскохозяйственной и «агропроизводительной» семантики. Р. А. Будагов как-то заметил, что понятие «культура» не встречается у таких «властителей дум» 40–60-х гг., как Добролюбов, Писарев или Чернышевский12. Это замечание требует дополнения – ведь у них есть «цивилизация». В одной из статей Чернышевский пишет: «Когда-нибудь и допотопные китайцы дойдут до порядочной европейской цивилизации». То, что китайцы допотопные, а цивилизация, по определению, «европейская» и «порядочная», вызывало некоторое недовольство и даже возмущение уже в XIX в.
Особенно резко против введения заемного слова «цивилизация» выступил в начале 60-х гг. Ю. Ф. Самарин: «Давно и искренне желали мы вразуметь, что именно подразумевается под словом «цивилизация», так недавно вошедшим у нас в моду, так часто повторяемым и почти совершенно вытеснившим из употребления слово «просвещение». Оба слова, пишет Самарин, выражают одно и то же или, по крайней мере, понятия, до того меж собой близкие, что в обыкновенном языке мы их строго не различаем! «Но если мы отбросили одно слово, притом коренное русское, и единодушно, не сговариваясь, усвоили себе для того же употребления другое слово, то надобно полагать, произошло это недаром»13. В истории модных терминов, в последовательной замене одних слов другими, полагает Самарин, отражается история общественных понятий. «Цивилизация» утвердилась в русском языке отнюдь не случайно. Вхождение этого понятия в русский язык Самарин связывает с привитием европеоцентристской формулы общественного сознания. «Хотя о цивилизации и принято говорить в двух смыслах – «об общей, всемирной, сближающей народы и для всех обязательной» и «частной, свойственной каждому историческому народу и, следовательно, для других не обязательной», тем не менее хитроумные дистинкции «общей» и «частной» цивилизации на самом деле служат лишь прикрытием для утверждения того, что «настоящей цивилизацией», сочетающей в себе требования частного и общего порядка, следует признать ту, которая выработана европейским миром»14.
Для русского человека, впервые выезжающего за границу, все разговоры о европейской цивилизации, полагает Самарин, прежде всего запечатлеваются в виде какой-то нестройной совокупности всякого рода условий житейского комфорта, накопленных фактических знаний и внешних форм общежития. В России цивилизационные приобретения обнаруживают неразвитый характер либо отсутствуют вовсе. Тем не менее, полагает Самарин, подспудно мы сохраняем убеждение, что, несмотря на те или иные упущения общественного и социального развития, духовное начало русской жизни – русское просвещение – обладает высшей ценностью. «Не от того ли, – заключает он, – и понадобилось нам слово «цивилизация», что мы сохранили какое-то бессознательное уважение к слову «просвещение» и что нам становилось как будто совестно употреблять его по мере того, как понятие мельчало, грубело и пошлело»15. В отличие, например, от К. Аксакова, сопоставлявшего европейскую и русскую «цивилизации» и разрабатывавшего идею об особости последней, Самарин настаивает на существовании оппозиции иного плана – «цивилизации европейской» с самого начала противопоставляется «русское просвещение». Выскажем предположение, что результатом последующего «снятия» остроты оппозиции «цивилизация – просвещение» и стало утверждение в русском общественном лексиконе более нейтрального и в этом смысле больше устраивающего всех понятия «культура». Случилось это в 1860-е гг.16 Впрочем, это нуждается в более развернутом обосновании, выходящем за рамки статьи.
* * *
Славянофилы недаром отдавали предпочтение просвещению, а не цивилизации. В первом понятии ими опознавались религиозные контаминации (в то время как в проникнутом пафосом гражданственности civilisation религиозное звучание отсутствует). О религиозных смыслах концепта просвещение напоминает И. И. Срезневский: в древнерусском «просвещать», пишет он в своем знаменитом словаре конца XIX в., – это не только «давать свет», «освещать», но и «совершенствовать», «совершать таинство крещения» и даже просто «крестить»17. Религиозную семантику концепта просвещение отмечают и современные исследователи: страсть к просвещению, готовность к подвигам ради него, почитание его как святого дела воспринимается как одна из особенностей русской духовной жизни. Причем идеи «света» и «святости» легко взаимопроникали и взаимо дополняли друг друга. В. Н. Топоров отмечает постоянно присутствующую «образность, построенную на игре слов – вплоть до figura etymologica, – обозначающих эти два близких круга понятий – святость и свет-сияние» (характерны такие устойчивые обороты, как «сияние святости», «свет святости»). «В русской литературе типично описание атмосферы бескорыстного “просвещенческого” энтузиазма, святой жажды просвещения. Страсть к просвещению воспринимается как труженичество во Христе». Тут «не просто тяга к просвещению и даже не только пристрастие, но прямо-таки страсть к просвещению, готовность к подвигам ради него, отданность ему и почитание его как святого дела (про-свътити – святити; *svet – *svet)»18.
На религиозный смысл русского понятия «просвещение» указывает Николай Гоголь. Обращаясь к Виссариону Белинскому, он пишет: «Вы говорите, что спасение России в европейской цивилизации, но какое это беспредельное и безграничное слово! Хоть бы определили, что нужно подразумевать под именем европейской цивилизации? Тут и фаланстеры и красные всякие и всякие – и все друг друга готовы съесть и все носят такие разрушающие, такие уничтожающие начала, что трепещет в Европе всякая мыслящая голова и спрашивает поневоле: где наша цивилизация?»19 В противовес идее цивилизации Гоголь выставляет «просвещение». И характерно, что в определении этого понятия затруднений не испытывает. «Даже наши светские люди, толкающиеся среди нас, – пишет он в статье «Просвещение», – каким-то неведомым чутьем начинают слышать, что есть какое-то сокровище, от которого спасенье – которое среди нас и которого мы не видим. Блеснет сокровище, и на всем осветится блеск его. И время уже недалеко. Мы повторяем еще бессмысленно слово «просвещение». Даже и не задумались над тем, откуда это слово и что оно значит. Слова этого нет ни на каком языке, оно только у нас. Просветить не значит научить, или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветить человека, во всех его силах, а не в одном уме, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь. Слово это взято из нашей Церкви, которая уже почти тысячу лет его произносит, несмотря на все мраки и невежественные тьмы, отовсюду ее окружавшие. И знает, зачем произносит»20!
Для славянофильской историософии преимущество просвещения перед цивилизацией объясняется не только собственно религиозным содержанием концепта. Существо дела, в связи с анализом культурно-исторической теории Н. Данилевского, ясно сформулировал В. С. Соловьев. В числе статей, написанных Соловьевым для словаря Брокгауза – Ефрона, значатся статьи о Н. Данилевском и К. Леонтьеве. В них Соловьев обстоятельно анализирует неославянофильскую концепцию культуры, главным образом сквозь призму категорий партикулярного и универсального, национального и всечеловеческого. Среди замечаний по адресу неославянофильства вообще и культурно-исторической теории Данилевского в частности Соловьев приводит одно соображение, которое и аккумулирует его основные расхождения с ними. Обсуждая особенности теории культурно-исторических типов, он видит в ней откат на позиции неисторического культурного партикуляризма. По Соловьеву, Данилевский отказался от идеи всемирно-исторического призвания России, изменил идее Русского Просвещения. «Основное воззрение автора «России и Европы» резко отличается от образа мыслей славянофилов. Те утверждали, что русский народ имеет всемирно-историческое призвание как истинный носитель всечеловеческого окончательного просвещения; Данилевский, напротив, отрицая общечеловеческую задачу в истории, считает Россию и славянство лишь особым культурным типом»21. Соловьев отстаивает правду раннего – просвещенного – славянофильства перед культурной узостью его эпигонов.
Во второй половине XIX в. зазор между культурой и просвещением становится слишком значительным, чтобы можно было оставить его незамеченными. Культуру легче понять в качестве некоего локального образования, как исторически конкретную цивилизацию, замкнутый в себе «тип». Это понимание вполне отчетливо заявило о себе в Европе еще тогда, когда концепты civilisation и culture получили форму плюралиса. Между тем просвещение в русском языке плохо согласуется с плюралисом. С точки зрения русского языка о «просвещениях» говорить не совсем корректно, просвещение не предполагает локальных образований, напротив, оно предусматривает более широкую – всечеловеческую – задачу, универсальный характер и окончательную цель. Славянофилы уловили смысловые интенции данного понятия. Если цивилизации и культуры легко представить как взаимо дополнительные образования – соседствующие друг с другом, то просвещение не предполагает рядом с собой ничего другого. Оно претендует на абсолютную роль, безусловную доминанту, религиозное значение22. Это Культура с большой буквы – и в единственном числе. Когда речь идет о русском просвещении, границы замкнутого мира национальной культуры оказываются преодолимы. Изливаясь светом Просвещения, эта культура открывает свое высшее предназначение. Стоит ли говорить, что эта особенность концепта в точности соответствовала установкам славянофильской историософии – ее упованиям на особое место России, русского Просвещения, вселенский характер русской культуры.
* * *
Наряду с «просвещением» еще одна обобщающая категория русского культурлексикона XIX в. – это «быт». Поставив «быт» в один ряд с «просвещением», увидим, что вместе они выражают более или менее современное представление о так называемой духовной и материальной культуре23. Между тем тут не все просто: «быт» говорит не только о том или ином непосредственно-практическом, материальном устройстве и укладе жизни, им выражается представление о жизни как таковой. Быт есть уклад человеческой жизни, взятый в его непосредственности и целостности. Это жизнь, схватываемая как некое качественно определенное единство. С одной стороны, быт – величина составная, складывающаяся из разнообразных, более или менее ясно фиксируемых способов осуществления жизненно нужных вещей (устройство жилища, приготовление еды). Вместе с тем это именно какая-то неразложимая целостность. Для семантики слова «быт» очень характерно единство материально-вещественного и эмоционально-нравственного (духовного) аспектов. И еще одна черта, отчасти даже парадоксальная: для русского лексикона цивилизационных понятий характерно, что просвещение оказывается где-то даже ближе к «цивилизации», чем к культуре; что обусловлено динамическими характеристиками в семантике обоих понятий. Напротив, быт максимально приближен к культуре. Цивилизация и просвещение выражают семантику роста, изменения и развития, быт и культура – понятия в большей степени статические. «Косный», «неизменный» быт соответствует той обращенности культуры в прошлое, о которой писал Норберт Элиас24.
Быт – весьма значимый элемент русского лексикона цивилизационных и культурных понятий XIX в. Содержание этого концепта раскрывают тексты К. Д. Кавелина (1818–1885); существительное «быт», в том числе в таких сочетаниях, как «внутренний быт», «духовный быт», регулярно используется у него для обозначения всего того, что позднее (в том числе и сам Кавелин) станут называть культурой25. В сочетаниях «общественный/семейный быт» это понятие служит также для обозначения «общества», «типа общественного устройства в целом». В работах 1840-х гг. Кавелин регулярно пользуется словом «цивилизация», тогда как «культура» у него еще отсутствует. Последнее понятие чаще всего «скрывается» за словом «быт», которое отсылает как к жизненному укладу, так и к форме социальных отношений, причем то и другое схватывается «бытом» в обоюдном единстве. Понятие «быт», его отношение к другим элементам концептосферы культуры до сих пор является недостаточно изученным. О «необходимости точно формулировать это понятие, и притом именно как историко-социологическую категорию», писал П. Б. Струве. Понятие «быт» он рассматривал как «специфическую категорию славянофильской социологии». Это понятие вычеканили, сформулировали и настойчиво проводили И. Киреевский, А. Хомяков и в особенности К. Аксаков. «Но полной ясности, – считал Петр Струве, – славянофильская социология в этом вопросе не достигла»26. Струве считал необходимым в какой-нибудь специальной работе полно рассмотреть историю этого понятия «и в русском языке, и в русском обществоведении».
Рассматривая понятие «быт» как специфическую категорию русской философско-социологической мысли, П. Струве обращал внимание на «соборный» (а если угодно, то и «коллективистический») смысл данного понятия. Как и «культура», «быт» отсылает к социально-надындивидуальному. «В основе быта лежит не своевольный, не одинокий или одиночный позыв – быт корнями своими уходит в какую-то богатую, тучную почву не особых личных, а совместных устремлений и навыков». Тут «не одинокое индивидуальное усмотрение и не личное своеволие, а, наоборот, вековая соборная душа и собранная воля»27. Особенные отношения, полагает Струве, связывают также «быт» и «идею», «теорию». В понятии «быт» Струве видит прежде всего «совокупность “фактических” и “конкретных” содержаний общественной жизни в их противоположении идеальным и отвлеченным построениям об этой жизни». «Быт есть конкретный живой образ бытия или существования. Он складывается из живых, не прошедших через иссушающее пекло отвлечения и обобщения человеческих влечений, оценок, действий, из того, чему следует не столько наш ум, с его остужающей логикой, сколько наши чувства и чувствования, наш позыв или инстинкт, свободный от умыслов и замыслов»28. «Надо ясно понимать, что «быт», «жизнь» есть контрарная противоположность «доктрине», «учению», «теории»... Тем не менее и в самом быту, – признает Струве, – наличествует какая-то стихийная идеология, которую можно объективным анализом выделить. Есть, стало быть, «долженствования», «учения», «идеологии», глубоко погруженные в быт, так сказать, покрытые и закрытые бытом»29.
В истории русского цивилизационного и культурного лексикона XIX в. особенное значение имеет промежуток между 1840–1860-ми гг. В 1840-е гг. слово «культура» в языке русской общественно-исторической мысли почти не встречается. И вплоть до середины столетия она остается чрезвычайно малоупотребительным термином (по крайней мере, как философско-историческое понятие). Только в начале следующего десятилетия ситуация начинает меняться, и меняется стремительно. Именно в это время культура становится важным элементом философско-исторической лексики. И очень показательно, что, входя в концептосферу русского языка, понятие культуры занимает преимущественно те ячейки и ниши, в которых прежде «обитало» слово «быт». Как обобщающую категорию его широко используют мыслители самых разных идейных направлений (в том числе историки – К. Кавелин, С. Соловьев). Благодаря обобщающему смыслу30, «собирающему» ту или иную форму, тот или иной тип человеческой жизни в определенное единство, понятие «быт» выдвигается в середине XIX в. в ряд важнейших категорий русского обществознания. Как мы уже отметили, «быт» прежде всего обозначает определенный уклад и способ человеческой жизни, взятый в своей целостности. В нем присутствует эмоционально-нравственная и едва ли не духовная составляющая (быт и бытие, житье-бытье). В середине XIX в. часто говорили о формах «материального и нравственного быта». Последнее характерно как для славянофильского лексикона, так и для языка, которым пользуются Чернышевский, Добролюбов, Писарев31. При этом, как и просвещение, понятие «быт» в русском языке довольно легко сакрализуется. В отличие от П. Струве мы не считаем, что оно может или могло быть сколько-нибудь свободно от идейных или идеологических коннотаций. Послереволюционная история борьбы за «новый быт» вполне очевидно демонстрирует это. Правда, это уже другая история…
* * *
Сакрализация просвещения и быта – не оборачивалась ли характерной для русского лексикона «цивилизационных» понятий XIХ в. секуляризацией культуры? Показательно, как долго, вплоть до конца столетия, русская мысль отказывалась замечать вполне очевидное с точки зрения внутренней формы слова религиозное смыслоначало «культуры». И даже обнаруживая его (как это делал, например, Н. Федоров), скорее «играла в оппозицию» культуры и культа как секулярного и сакрального. В статье «Просвещение» Гоголя недаром помянуты «толкающиеся среди нас светские люди». Они носители «секулярной», «срединной» культуры, которой противопоставлено помнящее о конечных целях и высших задачах «религиозное просвещение». Одним из первых о культовых началах, религиозных смыслах и истоках, но уже не просвещения, а культуры, заговорил В. Розанов. Особенно интересна в этом смысле его программная статья «Сумерки просвещения» (1893). Полемическая по характеру, статья эта посвящена проблемам русской школы, целям образовательной реформы, пониманию задач народного просвещения. Но ее концептуальный ряд шире этого сугубо образовательного содержания. В контексте обсуждения семантики сакрального и секулярного в русской терминологии культуры название статьи кажется симптоматичным, поскольку намечает тенденцию нового понимания. У Розанова то соотношение культуры и просвещения, о котором мы говорили выше на примере общественной мысли середины XIX в., пересматривается – причем со сдвигом «в пользу» культуры; последняя словно «берет на себя» всю сакральную семантику просвещения32.
Предметом критики Розанова выступает такая особенность современного ему образования, которую он маркирует как «межкультурье»; в учебной школьной литературе он видит особое влияние «межкультурных» книг33, причем пафос Розанова явственно перекликается с идеями Ницше, высказанными в работе «О пользе и вреде истории для жизни». Убеждение Розанова состоит в том, что «в каждый момент своей жизни историческое человечество любит что-нибудь одно, перед этим одним преклоняется, его считает величайшею святыней своего сердца и высшим авторитетом для своего ума». Но то, что справедливо относительно «собирательного человечества», будет справедливо, полагает Розанов, и относительно отдельного человека, ведь «по самой природе своей человек есть монотеист, то есть может поклоняться только одному Богу, и когда поклоняется двум – ни которому не поклоняется, но перед обоими лукавит. Это-то лукавое перед всем преклонение, соединенное с холодной готовностью все предать, и есть истинный результат того синтетического воспитания, через которое проводятся подрастающие поколения Европы. Ни любители они древности, ни истинные христиане, ни самоотверженные искатели истины, – уверяет Розанов, – они между всем этим, вне которой-либо из культур, то есть не несут на себе более ни одной из них»34. Критика европеоцентрической модели сознания, как ограниченной представлениями о преимуществах и достоинствах европейской цивилизации, как это было еще у Самарина, заменяется критикой европейской же культурной «мягкотелости», которая маркируется как межкультурное, всегда готовое отречься от своего.
Семейное и церковное воспитание все более вытесняется из жизни воспитанием цивилизационным – Розанов называет его «государственным». Для церкви «воспитанный» значит «религиозный»; для семьи это значит «любящий», «преданный». Для государства же – «ко всему этому индифферентного, во всем этом темного», «воспитанный» значит и усвоивший правила веры, и знающий сыновьи обязанности, и, наконец, просто достаточно обогащенный разными сведениями. По Розанову, идея этого воспитания – «создание человека вне духа своей культуры, синтетически собранного из всех элементов цивилизации»35. В понятии культа, раз за разом подчеркивает автор, содержится внутренний смысл культуры. Культ есть внутреннее и особенное внимание к чему-нибудь – предпочтение некоторого всему остальному (впрочем, внутренне культурен, по слову Розанова, кто не только носит в себе какой-то культ, но кто и сложен, то есть не прост, не однообразен в идеях своих, в чувствах, навыках и всем складе жизни). Итак, «культура начинается там, где возникает привязанность, где взгляд человека, неопределенно блуждавший всюду, на чем-нибудь останавливается и уже не ищет отойти от него»36. Поэтому культура связывается с «нарастанием в человеке чувств уважения и любви к чему-нибудь» (своему или становящемуся своим). Простонародное сознание, привязанное к своим ценностям, любящее их, оценивается как в высшей степени культурное, оно противопоставляется Розановым как сознанию первобытному – еще якобы недифференцированному и потому безразличному, так и сознанию цивилизационному – «межкультурному», всеядному.
Программе воспитания «из всех культур», которая будто бы все глубже и настойчивее проникает в русскую школу, противопоставлена у Розанова программа «строгого воспитания в единой (какой-нибудь одной. – Ю. А.) культуре»37. Впрочем, последняя задача вовсе не исключает, а даже и предполагает сосуществование разных типов так или иначе, но гораздо строже, чем сейчас, ориентированных школ (например, церковной школы, классической гимназии, реального училища). «Углубление в свой собственный мир» объявляется основой всякого понимания иного. «Мы должны исходить из того бесспорного факта, что единой культуры, единого, перед чем преклонился бы человек, нет теперь. Есть три совершенно разнородных, проникнутых духом антагонизма культа, куда человек хотел бы нести в жертву свои духовные дары: это культ античной цивилизации, христианского спиритуализма и точных внешних познаний человека о себе и природе»38. «Пусть каждый тип развивает, как бы уединяясь в истории, свое исключительное, одностороннее, но и прекрасное утверждение», – объявляет Розанов. «Конечно, одну из всех культур мы предпочитаем остальным и думаем, что совпадаем в этом предпочтении с течением истории. Но знаем также, что такого предпочтения нет в образованном обществе Европы, что, выйдя из строгих черт какой-либо культуры, оно несет в своих недрах только разбитые осколки всех». Собрать «сколько-нибудь» эти осколки ранее бывших культур в нечто целое возможно, но делать это надо так, говорит Розанов, чтобы стараться избежать их любого смешения: «Дика, груба мысль, что нужно их смешивать и тогда выйдет лучшая красота»39.
Итак, «задачей просвещения», полагает Василий Розанов, «может быть только выработка в подрастающих поколениях какого-нибудь культа, то есть преданности, любви, верности» – причем даже «без определения чему именно» [sic!]. «Школа должна быть зиждительна в отношении этих чувств, а не разрушительна к ним, как это есть во всей Европе». Признав этот основополагающий «зиждительный» характер школьного образования, мы должны будем признать, по Розанову, и основную образовательную методу: «впечатления должны быть удлиненными, по возможности менее прерываемыми; они должны быть гармоничны друг другу, то есть идти от какой-нибудь одной исторической культуры, а не от разных»40… Мы так подробно остановились на розановской развертке противоположности «межкультурья» и «настоящей» культуры не потому только, что она представляет собой любопытный пример концептуализации интересующих нас понятий. Дело, конечно же, и не в «современном звучании» или нарочитой «программности» заявлений русского автора (в связи, например, с разгоревшимися не так давно спорами о введении в школе курсов то ли «Закона Божьего», то ли «Основ православной культуры»). Позиция Розанова особенно интересна прежде всего по самому занимаемому ею месту. В русских практиках означивания культурфилософских понятий она оказывается «на перепутье» между старым и новым, «зиждительно-охранительным» и культурно-релятивным. Даже отрицая последнее, она уже необходимым образом несет его в себе (подобное положение вещей, но только с обратным знаком, когда культурно-релятивное по форме несет в себе охранительное содержание, нередко воспроизводится сейчас).
* * *
На первый взгляд идею Розанова о том, что, только «углубляясь в свой мир», мы достигаем и «других миров», стоило бы сопоставить с утверждениями русских символистов (Вяч. Иванова и А. Белого) о недостижимости никакого своего без опоры на другое (так называемый александрийский синтез культур). Позицию Розанова можно даже прямо противопоставить символистскому взгляду, усматривающему в открытости многообразию другого единственное достоинство миропонимания современного (по Белому, существо символистской позиции состоит «в стремлении сочетать… приемы разнообразных культур», в порыве «создать новое отношение к действительности путем пересмотра серии забытых миросозерцаний», символизм отличает у него попытка осветить современность цветными лучами многообразных культур»41). Но такое противопоставление будет страдать искусственностью. В интеллектуальных контекстах рубежа веков позиции символистов и Розанова выглядят как дополняющие и часто идущие «рука об руку». Ведь обе они, хоть и по-своему, «продвигают» идею множественности культур (как это отчасти делал уже и Леонтьев, когда заявлял, что «культура для него всегда только своеобразное»). Правда, в одном случае (как это у Розанова) акцент ставится на неповторяемости смысла каждой отдельной культуры и необходимости быть преданным (именно ввиду их множественности) какой-то одной. А в другом – как у Белого – на парадоксальном усилии «открыть себя», причем по возможности всем культурам сразу и одновременно.
Для нас сейчас, впрочем, важнее другое: если в русской интеллектуальной истории XIX в., по крайней мере, на каком-то значительном ее отрезке, члены ряда цивилизация – культура – просвещение были разбиты так, что образовали пару («просвещение» с одной стороны и «цивилизация/культура» – с другой), элементы которой были соотнесены как «русское» и «европейское», «сакральное» и «секулярное», «высшее» (или безусловное) и «срединное» (условное), то уже на рубеже веков это соотношение оказалось размытым и более в ту же самую простую конфигурацию невосстанавливаемым. На протяжении едва ли не всего XX века популярностью пользовалась другая оппозиция – оппозиция «цивилизации» и «культуры». Но характерно, что просвещение в эту оппозицию XX в. уже так «не вписано». Оно в зависимости от ряда уточнений может оказаться и «на стороне» культуры (так бывало в начале века), и «на стороне» цивилизации (рационализм, «просвещенчество», «образованщина»). В конечном счете уже на исходе XIX в. идея многообразия культур заступила место идеи культуры как (так или иначе понятого) просвещения. Но при этом понятие просвещения словно «отдало часть самого себя» идее культуры42. Просвещение семантически «полегчало» и даже как бы «выветрилось», культура же концептуально усложнилась и «уплотнилась», все вобрала в себя не только из просвещения, но и из быта. И никакая секуляризация – в смысле позднейших содержаний этого понятия – не могла уже отменить высшего (наделенного почти сакральным статусом) значения этого понятия среди всех других.
Примечания
1 Исключение составляет один-единственный случай, когда слово civilisation
так и осталось в русском переводе «цивилизацией», что само по себе явилось событием вполне революционным. Французский оригинал «Философических писем» и
первый русский перевод ФП 1 1836 г., выполненный Ал. С. Норовым и Н. Х.
Кетчером (в редакторской правке Н. И. Надеждина), доступны в издании: Чаадаев
П. Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. Т. 1. – М.: «Наука», 1991,
С. 86–106, 641–676. 
2 См.: Пушкин А. С. О причинах, замедливших ход нашей словесности //
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в 10-ти тт. Т. 7. – М.: «Наука», 1964.
С. 18, Пушкин А. С. Письма. Т. 1, 1815–1825. – М. – Л.: «Государственное издательство», 1926. С. 140 (письмо П. А. Вяземскому от 13 июля 1825 г.). 
3 Тургенев А. И. Хроника русского. Дневники. – М. – Л.: «Наука», 1964. С. 262
(все выделения курсивом здесь и ниже произведены нами. – Ю. А.). 
4 Киреевский И. В. О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России // Киреевский И. В. Критика и эстетика. – М.: «Искусство», 1979.
С. 248–249. 
5 См.: Киреевский И. В. XIX век // Киреевский И. В. Критика и эстетика. С. 89. 
6 Там же. С. 96. 
7 Там же. С. 97–98. 
8 Киреевский И. В. О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России. С. 256. 
9 См.: Асоян Ю. А., Малафеев А. В. Открытие идеи культуры. Опыт русской
культурологии середины XIX – начала XX в. – М.: «О.Г.И.». 2001. С. 63–72. 
10 Тютчев Ф. И. Незавершенный трактат «Россия и Запад» // Литературное
наследство. Тютчев Ф. И. – М.: «Наука», 1988. Книга 1. С. 201–209. 
11 Герцен А. И. Письма к путешественнику // Герцен А. И. Сочинения в 2-х тт.
Т. 2. – М.: «Мысль», 1986. С. 385. 
12 Будагов Р. А. История слов в истории общества. – М.: «Просвещение», 1971.
С. 128. 
13 Самарин Ю. Ф. По поводу мнения «Русского Вестника» о занятиях философиею, о народных началах и об их отношении к цивилизации // Самарин Ю. Ф.
Избранные произведения. – М.: «РОССПЭН», 1996. С. 542. 
14 Там же. С. 542. 
15 Там же. С. 545–546. 
16 Нередко полагают, что утверждение концепта культура в русском лексиконе
инициировала «Первобытная культура» (Primitive culture) Э. Б. Тэйлора. Ее русский
перевод появился в 1872 г., сразу вслед за английским изданием 1871 г. На самом
деле влияние Тэйлора на формирование русского лексикона культурных понятий не
столь значительно. Топика понятия культуры в России лежит в плоскости философско-исторической мысли, историософии, а не в антропологии и этнографии, как это
больше характерно для Европы. Русская этнография понятием культуры вплоть до
второй половины 1880-х гг. не пользовалась. 
17 См.: Срезневский И. Материалы к словарю древнерусского языка: В 3-х тт.
М., 1893–1895. Т. 3 (сл. ст. «Просвещение»). 
18 Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. 1. – М.: «Языки русской культуры», 1995. С. 475–476. Ср. там же. С. 751–756, 650–651, 488
и сл. 
19 Цит. по: Зеньковский В. В. Русские мыслители и Европа. Критика европейской культуры у русских мыслителей // Зеньковский В. В. Русские мыслители и
Европа. – М.: «Республика», 1997. С. 36. 
20 Гоголь Н. В. Избранные места из переписки с друзьями. // Гоголь Н. В.
Собрание сочинений: В 9-ти тт. Т. 6. – М.: «Русская книга», 1994. С. 70. По энергетике, напору и какой-то формульности статья о просвещении Гоголя не может не
напомнить кантовский манифест «Ответ на вопрос: что такое просвещение?». Тем
разительнее, конечно, контраст идейный. У Канта «просвещение – это выход человека из состояния несовершеннолетия, в котором он находится по собственной
вине». Несовершеннолетие определено как «неспособность пользоваться своим
рассудком без руководства со стороны кого-либо другого. Несовершеннолетие по
собственной вине – это такое, причина которого заключается не в недостатке
рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-либо другого. Sapereaude! – имей мужество пользоваться
своим собственным рассудком! Таков, следовательно, девиз Просвещения… Ведь
как удобно быть несовершеннолетним! Если у меня есть книга, думающая за меня,
духовник, совесть которого заменяет мою…» (Кант И. Ответ на вопрос: что такое
просвещение? // Кант И. Сочинения на немецком и русском языках. Т. 1. Трактаты
и статьи (1784–1796). – М.: «kami», 1994. С. 127). Полагая, что «большинство людей
считает не только трудным.., но также и опасным переход к совершеннолетию»,
Кант тем не менее все надежды возлагает «на публику», которая хоть и не скоро, но
в состоянии «сама себя просветить»! Ибо для просвещения «не требуется ничего,
кроме свободы, причем самой безобидной», заключающейся лишь в «свободе
публично пользоваться своим разумом» (Там же. С. 131). Публичное применение
разума Кант противопоставляет частному, ограниченному отправлением какой-либо
государственной обязанности, должностным положением. Частным образом пользуется своим разумом служащий, человек, ограничивающий свободу своего мышления отправлением той или иной функции. Арбитром частного использования разума
является интерес и обязанность службы. Арбитром общественного применения
разума Кант называет «читающую публику», суд открытой общественной дискуссии и критики (С. 133). Насколько это понятие просвещения оказывается связано с
идеей цивилизации, установками общественного образования и самообразования
человека и как далеко все это отстоит от идеи религиозного просвещения у Гоголя,
говорить не приходится. 
21 Соловьев В. С. Данилевский // Соловьев В. С. Сочинения: В 2-х тт. Т. 2. – М.: «Мысль», 1988. С. 408. К. Леонтьев в свое время в «изменничестве» обвинял
В. Соловьева и даже будто бы предлагал выслать его в Европу. Соловьев «возвращает» обвинение в измене, но не прямо Леонтьеву, а его ближайшему единочувственнику и единомышленнику Данилевскому. 
22 О задачах русского просвещения Хомяков пишет: «Внимай ему – и все народы / Обняв любовию своей / Скажи им таинство свободы / Сиянье веры им пролей»... (Цит. по: Жаба С. П. Русские мыслители о России и человечестве. Антология
русской общественной мысли. – Париж: «Умка-пресс», 1954. С. 34). 
23 О появлении в русской мысли конца XIX в. оппозиции духовной и материальной культуры пишет в «Очерках по истории русской культуры» П. Н. Милюков. Не
так давно Л. Г. Ионин высказал интересное наблюдение, состоящее в том, что
дуальная схема деления культуры на «духовную» и «материальную» в большей
степени соответствует именно русской практике. В европейской мысли в этой
бинарной схеме присутствует очень важный посредующий элемент – в культуре
выделяются области не только «материального» и «духовного», но также и «социального» (Ионин Л. Г. Социология культуры. – М., 1998). 
24 Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические
исследования. – М. – СПб: «Университетская книга», 1999. Т. 1. Часть 1. 
25 См.: Кавелин К. Д. Наш умственный строй. Статьи по философии русской
истории и культуры. – М.: «Правда», 1989. 
26 Струве П. Б. Дух и быт // Струве П. Б. Избранные сочинения – М., 1999.
С. 391–392 и сл. (Первоначально работа была опубликована в Записках русского
научного института в Белграде. Вып. 15, Белград, 1938. С. 173–195). 
27 Струве П. Б. Указ. соч. С. 392. 
28 Там же. 
29 Там же. 
30 Считается, что абстрактное значение слово «быт» получило в русском языке
довольно поздно, хотя и не позже 2-й пол. XVIII в. Уже в Словаре Академии
Российской (в 1789 г.) быт – род жизни. В этом значении слово встречается у
Державина в «Похвале сельской жизни» (1798). Прилагательное «бытовой» и глагол «бытовать» известны лишь с 40-х гг. XIX в. (см.: Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. – М., 1993. Т. 1. С. 129). 
31 См.: Чернышевский Н. Г. Сочинения в 2-х тт. Т. 2. – М., 1987. С. 245. 
32 По определению Розанова, «культура есть синтез всего желаемого в истории:
из нее ничто не исключается, в нее одинаково входят религия, государство, искусство, семья, наконец, весь склад жизни личной и общественной» (Розанов В. В.
Сумерки просвещения. – М.: «Просвещение», 1990. С. 31). 
33 Розанов В. В. Указ. соч. С. 18. 
34 Там же. С. 19. 
35 Розанов В. В. Указ. соч. С. 22–23. 
36 Там же. С. 30. 
37 Там же. С. 42. 
38 Там же. С. 50. 
39 Там же. С. 51. 
40 Там же. С. 45. Курсив везде наш. – Ю. А. Стоило бы сравнить это положение
с не раз высказанной П. Флоренским идее о том, что в понимании культуры в XX в.
доминирующей будет идея разрыва, прерывности и множественности. 
41 См.: Белый А. Эмблематика смысла // Белый А. Символизм как миропонимание. – М.: «Республика», 1993. 
42 Понимание культуры как просвещения с новой силой будет задействовано в
построениях Вяч. Иванова. См.: Иванов Вяч., Гершензон М. Переписка из двух
углов // Иванов Вяч. Родное и вселенское. – М.: «Республика», 1994.  |