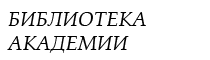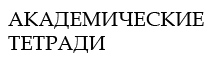ОБЩЕСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ЭСТЕТИКИ И СВОБОДНЫХ ИСКУССТВ ИМ. Ю.Б. БОРЕВА
![]()

БИБЛИОТЕКА АКАДЕМИИ
Б.Ф. Егоров
Об уровнях культуры (ленинградские размышления)*
Под культурой я понимаю все, относящееся к деятельности человека, в противовес естественной природной среде, которая нас окружает. Лес, река, холмы, включенные в сферу жизни человека, тоже окультуриваются, делают и природу "культурной". Остроумный издательский афоризм "Телеграфный столб – это хорошо отредактированная елка" – вполне серьезно может быть использован для противопоставления и формулирования: елка это природа, а телеграфный столб – культура. Конечно, возможно колоссальное количество разных степеней и классификаций культуры, одних антиномий множество: духовная и материальная, традиционалистская и новаторская, общечеловеческая и местная, городская и деревенская, созидательная и разрушительная (т.е. уже антикультура) и т.д.
Наряду с относительными мерами, когда очень трудно сравнивать культуры разных регионов и эпох, да иногда просто невозможно давать ценностные характеристики: дескать, эта культура лучше, выше, "культурнее" какой-то другой, – все-таки есть и довольно абсолютные критерии для сравнения, особенно в области материальной культуры. Можно, например, твердо размышлять, что Россия, подвергнутая после 1917 года варварскому обнищанию, оболваниванию, отюремливанию, отстала в материальном культурном развитии даже от своих былых "окраин" (Польша, Прибалтика, Финляндия), а ведь материальная культура не отделима от духовных сфер, в них тоже были сплошные изъяны и помехи.
Неоднородность и неодинаковость по ценностным характеристикам и уровням культуры разных народов очень заметны при политических режимах тоталитарного, репрессивного свойства. Скажем, в Польше после 1945 г. режим мало чем отличался от нашего, но все же власти разрешали демонстрацию "буржуазных" фильмов Запада, перевод литературных новинок в противовес нашим запретам, граница хотя и узкой щелочкой, но все же была открыта для поездок в другой мир; а о роли религии в жизни Польши и говорить нечего: Гомулка не мог, подобно Хрущеву, взрывать церкви и ликвидировать целые приходы, запрещать религиозную литературу и т.п. (распоясанность наших правителей по отношению к религиям уходит за пределы Октябрьской революции вглубь истории: кощунственное отношение к церкви, дикие репрессии начались даже не при Петре I, а при Иоанне Грозном; не берусь судить о всех религиях, но относительно православной могу утверждать, что ее приниженное, рабское положение при царских режимах только-только начало меняться к Серебряному веку нашей культуры, чтобы затем быть доведенным совсем уже до нечеловеческого состояния после 1917 года).
В Польше все-таки невозможны были ни какое-либо постановление ЦК вроде нашего 1946 года, о журналах "Звезда" и "Ленинград", ни разгром выставки художников-модернистов. Уровень культуры, на который поднялся народ, не позволял никаким правительствующим уголовникам переходить определенные пределы. Мы можем, конечно, утешаться, что в сравнении с тем, что творилось в Китае, Северной Корее, Камбодже, у нас еще было относительное благополучие. Но упаси нас Боже на будущее от всех тех благополучий.
Есть разные уровни культуры и внутри одной страны. Есть и города, получившие в народе название "культурный" – скажем, Ленинград, Одесса, Рига. Это не означает, что другие города и веси – не культурные. Но все-таки можно говорить, опять же, о более высоких и более низких уровнях, сравнивая города по различным параметрам. Мне приходилось часто бывать в знаменитом волжском городе Нижнем Новгороде (как хорошо теперь сказать: "бывшем Горьком"). Люблю его, хорошо знаком со многими замечательными горожанами, но если сравнивать его по разным показателям с Питером, то, увы, Нижний по ним проигрывает (пока проигрывает; Питер неумолимо раскультуривается и заставляет тревожиться за его будущее). Например, в Эрмитаже и Русском музее сотни выставочных залов и комнат всегда заполнены тысячными толпами посетителей; если даже мысленно изъять зарубежных и отечественных гостей, все равно музеи окажутся забитыми народом; а маленький, да удаленький Нижегородский художественный музей с залами изумительных картин Рериха, с Кустодиевым, обычно полупустой.
А Ленинград, вызывая ужас, оцепенение у истинных его патриотов, раскультуривается на глазах. Способствуют внешние факторы: трескается и обрушивается штукатурка на красивых фасадах, крошится асфальт, с каждым днем уменьшается количество автобусов и троллейбусов (не говорю уже о трамваях!), пустеют магазинные полки и т.д. и т.п. – вместе с политическими неурядицами это создает напряженность, конфликтность, нервы натянуты, брань и толкотня захватывают все новые территории. Кстати, Советская Россия, стимулируя после 1917 года почти мгновенные – всего за несколько лет – затопления городов ошарашенными селянами, люмпенами, проходимцами, не только создала теперь уже классический зощенковский образ нового мещанина, но и лишила горожан возможности постепенно вырабатывать культуру, особенно – культуру поведения человека в толпе мегаполиса; ведь не нужно полагать, что на Западе вовсе нет очередей и тесноты: во время часов пик в магазинах и кафе, в вагонах метро, при переходе большой улицы по зеленому светофору скапливаются толпы, и по отечественной привычке ждешь немалой же толкучки, но с детства выработанная культура поведения приводит к восхитительному умению обтекать друг друга не толкаясь.
Можно, конечно, объяснить наши развалы и неурядицы объективными причинами. Но ведь, с другой стороны, стоит обратить внимание и на себя, на каждого жителя нашего грустного отечества. Оригинальный мыслитель, профессор Ленинградского университета Я.В. Дурдин (электрохимик) делил всех людей, связанных с наукой, на три категории по их отношению к своей профессии: одни даже при самых неблагоприятных условиях будут заниматься творчеством, другие, наоборот, даже при самых благоприятных обстоятельствах будут "сачковать" и увиливать от работы, третьи подвержены влиянию обстановки и примкнут к первым или вторым в зависимости от окружения и от духа времени. Эту классификацию можно применить и к внутренней культуре человека: одни генетически или воспитанием так глубоко ею пропитаны, что останутся культурными при самой антикультурной ситуации, другие настолько внутренне звереныши, что никакое воспитание не уничтожит этого дикого ядра, а третьи окажутся с теми или иными культурными акцентами в зависимости от среды, от окружения.
Можно, например, объяснить, почему на автобусной остановке такая грязная россыпь окурков и проштампованных билетов-талончиков: нет урны! Но культурный человек просто физически не способен бросить мусор на дорогу или на пол, в то время как другой даже при рядом стоящей урне швырнет окурок на панель.
Внутренняя культура человека чрезвычайно важна и для быта, и для духовной деятельности. Несобранный, равнодушный к порядку ученый будет давать сбои в своей творческой работе. Тот же Дурдин считал, что чистый, уникально чистый опыт сможет провести лишь химик в опрятной одежде.
Внутренняя культура особенно заметно проявляется в интимных областях, когда человек выбывает из-под общественного контроля, из-под проверки и оценки поведения: например, в общественном туалете с отдельными кабинками, в душевых, в процессе уединенной еды. Обратите внимание на оставленные на столовских-ресторанных- кафейных столах объедки: часто человек из жадности набрал того, другого, третьего, а потом, насытившись, испакостил куски хлеба, гарнир ко второму блюду и т.п. Особенно отвратительно поведение некоторых лиц в ресторанах, имеющих "шведские столы" (когда платишь определенную сумму при входе, а затем сам выбираешь еду и накладываешь в тарелки, чашки, блюдца нужные тебе количества). Господи, какие горы несъеденного выносят на помойку уборщики этих "шведских столов"! Думаю, ни один швед не поступит так в аналогичной ситуации: ведь каждый знает приблизительно объемы своего желудка, и лучше потом вернуться к прилавку за добавкой, чем бездумно оставлять еду в тарелке.
Я остановился так подробно на различных аспектах бытового поведения потому, что оно более наглядно и более объяснимо. Другие аспекты посложнее, но в целом они аналогичны рассказанному.
Очень важно пропагандировать культуру и все больше приобщать к ней колеблющуюся серединную массу. Такая пропаганда должна вестись со страниц периодики, с экранов телевизоров, по радио – в самых различных жанрах, от юмористического высмеивания не-культуры и анти-культуры, до серьезных очерков и проповедей (а заодно следует бороться с "разрушительными", анти-созидательными тенденциями: почему-то ленинградская телевизионная передача "600 секунд" непрерывно показывает убийц и насильников, да еще ведет интервью с ними; даже символ передачи – НТК, т.е. "Независимая телекомпания", – преподносится зрителям полыхающим в яростном огне).
Громадная роль в перевоспитании людей, в постоянном приподымании "планки", т.е. уровня культуры, принадлежит городу. Он воспитывает не только старожилами, но и самим своим обликом. В этом отношении совершенно уникальна культурная роль Ленинграда, его исторического центра. Ведь исконное население Питера занимает сейчас очень скромную долю в 5-миллионном городе: эмиграция и побеги за рубеж дореволюционной интеллигенции, выкорчевывание, в несколько заходов, петербургского дворянства, духовенства, несколько этапов сталинских репрессий, наконец, чудовищная блокада 1941-1942 годов – все это унесло столько жизней настоящих питерцев, что сейчас их нужно искать со следопытами.
А город все-таки воспитывает! Конечно, помогают и старожилы. Я не природный петербуржец, я волжанин, приехал в Ленинград в 1945 г. В студенческое общежитие. И в первый же день пришлось идти в санпропускник, иначе не поселяли. Дали адрес. Приехали туда с товарищем. Увы, по этому адресу большой больницы санпропускник уже не работал, его закрыли по окончании войны. Уныло побрели мы: куда же податься? И вдруг, уже за квартал от больницы, нас догоняет запыхавшаяся медсестра, прямо в халатике, без пальто (а был мороз): она вспомнила, что санпропускник есть всего в одной остановке от них. Нахлынула горячая, романтическая волна благодарности. И память на всю жизнь: такое не забывается. Это и есть истинный Петербург.
Но не меньше воспитывает и сам город, его улицы, дома, парки, каналы: Они возвышают душу и настроение, заставляют быть собранным и добрым. Может быть, и эта красота спасет мир? Во время одной литературоведческой экскурсии с провинциальными коллегами по Ленинграду сибирячка спросила меня: "Вы, наверное, уже привыкли к этой красоте, она уже не волнует?" -- "Нет, – ответил я (и как-то горло сжалось от величия и нетленности питерской красоты), – к этому невозможно привыкнуть". Да, невозможно не волноваться, когда стоишь у Ростральных колонн, когда идешь по Невскому, когда выходишь к Исаакию и Медному всаднику:
Ведь что получается: процент исконных питерцев явно ниже, чем исконных москвичей, но ведь Москву, ее центр и древние гнезда варварски разрушили – и зощенковское мещанство затопило столицу, а Питер как-то еще держится. Может быть, именно сохранившийся центр способен окультуривать приезжих? Медленно, но верно вырастала у нас культура уличного и транспортного поведения: молодежь стала уступать старикам места, в метро и наземном транспорте теперь почти не видишь сосущих мороженое и т.д. Общий наш развал, страшное загрязнение города, магазинная и транспортная толкотня, все это очень замедлило процесс подъема по ступенькам культуры, а иногда и потянуло его вниз.
Тем более важно бросить силы на благоустройство города, учитывая его уникальную воспитательную, приподымающую и очищающие души роль. В конце концов все города нуждаются в помощи и обустраивании, но – да не сочтут жители других регионов мои сравнительные раскладки местническими и эгоистическими – все-таки роль сохранившегося центра Питера настолько неповторима и ценна, что он особенно первостепенно нуждается во внимании местных советов, да и всех жителей.
А постепенное повышение уровня культуры одного города будет влиять на окрестные регионы, на всех приезжих: поднимать "планку" в одном месте – значит, настраивать и других на более высокие уровни. Все у нас взаимосвязано.
* Этот машинописный текст я нашел в своем архиве. Скорее всего – это заготовка для какого-либо публичного выступления (менее вероятно – для печати, но это тоже не исключено). Относится текст к самому концу 1980-х годов, к последним "советским" годам. Любопытно однако, что он интересен не только для истории: почти все оказывается актуальным и в наши дни. 16 ноября 2007 г.